Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [132]
Фрагмент «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (отброшенное заглавие: «О чистоте российского штиля») можно счесть первым приступом Ломоносова к работе над задуманным предисловием к собранию своих сочинений: оба текста обосновывают государственную пользу «словесных наук», в том числе на примере древних народов, и возводят достоинства русского языка к «церковным книгам» (в черновом наброске: «книгам, в прошлые веки писанным» – VII, 581–582; о предполагавшемся продолжении наброска см.: Гуковский 1962б, 72–74). Последний тезис занимает центральное место в «Предисловии…», которое, как точно формулирует Х. Кайперт, представляло собой «не столько трактат по стилистике, сколько похвалу русскому языку» (Keipert 1991, 89):
Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. <…> Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль много мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно. <…> Справедливость сего доказывается сравнением российского языка с другими, ему сродными. Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большой части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим (Ломоносов, VII, 587–588).
На основании общей традиции церковной письменности Ломоносов постулирует культурное единство православных славян:
Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славенского поколения, которые греческого исповедания держатся, ибо хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным <…> По времени ж рассуждая, видим, что российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился <…> (Там же, 590).
В работе, положившей начало политическому истолкованию «Предисловия…», Р. Пиккио указывает, что ломоносовский культурный «эллинизм» привит к «старинному древу историософских тезисов, уже обобщенных однажды в формуле „Москва – Третий Рим“». По заключению исследователя, «основной пафос этого „Предисловия“ – в конфессиональном патриотизме, ось которого – традиционное русскоцентристское видение славянской православной эйкумены (более или менее прямой наследницы христианской Византийской империи)». Пиккио устанавливает, что в «Предисловии…» речь идет не столько о «литературной норме русского языка», сколько о «той функции древнего языка православно-славянской общности (Slavia Orthodoxa), которая может стать инструментом имперской миссии <…> новой России» (Пиккио 1992, 147–149). Такой взгляд на историческую роль «славенского языка» (Пиккио именует его «протопанславизмом») имел свою традицию в русской имперской рефлексии и был, в частности, сформулирован Татищевым в 41–42‐й главах первой части «Истории Российской», озаглавленных «Язык славенской и разность наречей» и «О умножении и умалении славян и языка»:
<…> наши от 863‐го Мефодием и Кириллом переведенные книги <…> во всех славенских народах греческаго исповедывания употребляемы, ибо печатанных в России каждогодно немалое число в Болгарию, Долматию, Славонию и пр. вывозят. <…> Стрыковский <…> и с ним протчие польские писатели мнят быть в Руси целу древнему славенскому языку <…> Сие так далеко за истину почесть можно, что у нас книги церковные, как выше сказано, от 9‐го ста по Христе язык славенской частию сохраняют, а поляки свой язык <…> много переменили. <…> папежская великая власть и коварный вымысл к содержанию народа в темноте неведения и суеверствах употреблением в богослужении единственно латинского языка, наипаче оной разпространили <…> Даже некоторые благоразумные государи, усмотря такую их противобожную власть, опровергнули. <…> Из всех славенских областей русские государи наиболее всех разпространением и умножением языка славенского славу свою показали <…> На юг великие и славные государства Болгорское, Сербское и другие, под власть турецкую пришед, весьма умалились и умаляются <…> (Татищев 1994, 341–344).
Процитированные главы представляют собой, по всей видимости, прямой источник «Предисловия…». Составлявшаяся в 1740‐х гг. «История Российская» Татищева не была еще напечатана, но ходила в списках в придворном кругу; рукопись первой и второй частей одно время была в собрании Шувалова (см.: Там же, 38). В 1749 г. Ломоносов по просьбе Татищева написал посвящение к первому тому «Истории…» (см.: Ломоносов, VI, 15–16, 545–546). Во второй половине 1750‐х гг. он внимательно изучал этот том для работы над собственной «Древней российской историей», заказанной ему Шуваловым и готовившейся к печати летом–осенью 1758 г., одновременно с «Предисловием…» (см.: Там же, 572–575). Список татищевской «Истории…» Ломоносов держал у себя с 1757 г.; сохранились его пометы на рукописи начальной части этого труда (см.: Коровин 1961, 238–239; Кулябко, Бешенковский 1975, 136–138)
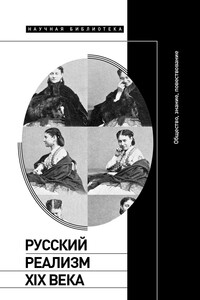
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
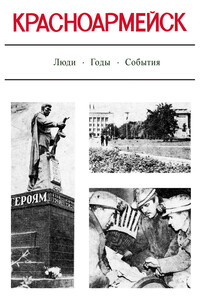
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.