Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [107]
Il fallait donc m’appuyer d’autorités dans les endroits où mon enthousiasme paraissait le plus violent; c’est ce que j’ai fait en prenant mes plus hautes idées dans la quatrième Eglogue de Virgile, dans le prophète Isaïe, dans le seconde Epître de Saint-Pierre, dont vous reconnaitrez que ma huitième, neuvième et dixième strophe sont tirées; de sorte que mes auteurs ne pouvant être condamnés, je me suis mis en sûreté d’autant mieux, que toutes ces strophes sont encore allégoriques de la paix, que je prédis qui va régner sur toute la terre, et ces magnifiques images de nouveaux cieux, et d’une terre nouvelle reformée du chaos après sa conflagration, ont effectivement saisi tout le monde, et ont peut-être plus fait concevoir, ce que c’est que le désordre de l’ode, que n’auraient pu faire toutes les définitions.
[Мне необходимо было опереться на авторитеты в тех местах, где энтузиазм мой казался особенно неистовым; именно с этой целью я почерпнул самые возвышенные мои идеи в четвертой эклоге Вергилия, в пророчествах Исайи, во втором послании апостола Петра, откуда, как вы увидите, извлечены моя восьмая, девятая и десятая строфы; так что, поскольку авторы мои не заслуживают осуждения, я защитил себя тем более надежно, что строфы эти суть аллегории мира, который, как я предвещаю, наступит на всей земле, и эти великолепные образы новых небес и новой земли, преобразившейся из хаоса после пожара, поистине потрясли всех и, возможно, сделали более понятным, что такое беспорядок одический, чем сделали бы любые определения.] (Цит. по: Grubbs 1941, 233)
Руссо увязывает энтузиазм и беспорядок оды с определенным модусом политического воображения – с вселенской темпоральностью кризисов и реставраций, с «аллегориями мира», приходящими на смену «хаосу». «Внезапный ужас» поэтического вдохновения мотивирует в оде Руссо картину политико-богословского обновления, связанного с рождением наследника:
[Какое чудище покорило вселенную алчному кровопролитию? Какая безжалостная Эвменида напитала воздух своим жаром? Какой бог изрыгает повсюду войну и как будто понуждает наши окровавленные руки опустошить землю? Не Мегера ли, изгнанная из ада, внушила нам свой дух и решает теперь судьбы человечества? Остановись, неумолимая фурия, небеса смягчают свою суровость. Жар преступной ненависти, охвативший наши сердца, уже превзошел всякую меру. Возлюбленная тишина, божественная дева, сойди c лазурного свода, взгляни на свои поднимающиеся вновь храмы и верни в лоно наших городов тех мирных и благодетельных богов, которых возмутили наши преступления.] (Rousseau 1820, 92–93)
В «Оде… на день восшествия… 1746 года» Ломоносов прибегает к сходным фигурам для описания елизаветинского переворота:
(Ломоносов, VIII, 141–142)
Пиндар, на которого Руссо ссылается в первой строфе своей оды, неслучайно служит точкой отсчета для обоих одописцев. Агамбен видит в Пиндаре «первого выдающегося мыслителя темы суверенитета». Согласно этому толкованию, 169‐й фрагмент Пиндара («Закон – царь всего <…> одобряя насилие, правит всемогущей рукой») представляет собой «скрытую парадигму, которая предопределяет любые последующие определения суверенной власти: суверен является точкой неразличения насилия и права, границей, на которой насилие превращается в право, а право обращается в насилие» (Агамбен 2011, 44–45; Ломоносов, вопреки распространенному мнению, обращался к авторитетным изданиям Пиндара; см.: Коровин 1961, 336–337). Этот двойственный облик суверенной политики, как кажется, принципиально важен для объяснения востребованности пиндарической оды в Новое время (см. о ней: Маслов 2015). Взаимозависимость и переплетенность насилия и порядка разворачивается – в том числе при помощи прямых парафраз Пиндара – в аллегорической темпоральности оды (см.: Ram 2003, 70–74). Воззвание к «возлюбленной тишине» во второй из процитированных строф Руссо представляет собой переложение первых стихов 8‐й Пифийской оды Пиндара:
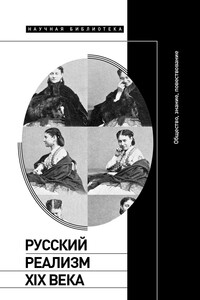
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
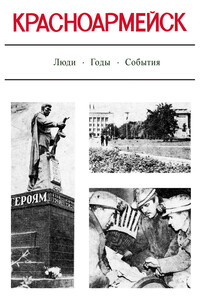
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.