Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [102]
(Ломоносов, VIII, 100–101)
Это рассуждение выстроено вокруг сложного соположения риторико-поэтического вымысла и «истины» политического статус-кво. Сперва Ломоносов взывает к поэтической традиции, ее авторитетным именам (некоторые из них названы в начале оды: Пиндар, Гомер и Овидий) и модусам эстетического воздействия: «<…> которых жар не погасится / И будет чтущих двигать ум». Собственные стихи Ломоносова не упраздняют литературную классику, но провозглашают ее авторитет и стремятся приобщиться к ее каноническому бессмертию. Это приобщение, воплощенное в прямом диалоге древних поэтов с новым, осложняется формулой «вымышлять <…> без вещи имена одне»: здесь возобновляется риторическое различение между предметом речи (в «Риторике» сказано, что «материю риторическую» составляют «все известные вещи» – Там же, VII, 96) и вымыслом как ее приемом. К «вещам» в стихах 1742 г. относится благополучное правление Елизаветы, составляющее собственную тему оды. Контраст между «истинными добротами» Елизаветы и литературными «баснями», однако же, сразу релятивируется ее эмфатической поддержкой «Муз» (поэзии и наук), напоминающей о поэтически-фикциональной природе ломоносовских заклинаний «истинности».
Следующая строфа еще сильнее подрывает различение между древней поэзией и новой политикой, средствами поэтического воображения относя «щедроту с красотой» Елизаветы в «древни веки». Там императрица принимает черты богини: как показывает ломоносовское когда бы, в этом внеположном христианству мире «стихотворцев» боги порождаются поэтическим вымыслом. «Прекрасный образ» императрицы, обретающий иллюзорную эмблематическую материальность, помещен в точке пересечения политической хвалы с условно-мифологическим идолопоклонством и эстетической логикой прекрасного. Это совпадение, складывающееся в условном прошлом «басен», вменяется и будущему имперской России: «будущие роды» подданных, которым предстоит превозносить Елизавету, совпадают с поколениями «чтущих», чье воображение будет отзываться на «шум» классических «стихотворцев», и в их числе самого Ломоносова. В итоге серии семантических сдвигов политический культ императрицы оказывается неотделим от поэтического аппарата и литературного бессмертия оды. Под именем славы и слуха ода разрабатывала обширную сферу, где поэтический и политический успех имели общие основания в риторических техниках и их медиальном бытовании.
Как уже упоминалось, узловым текстом макиавеллистической придворной литературы («барокко» Беньямина или «классицизма» Пумпянского) была переведенная Тредиаковским и высоко ценимая Ломоносовым «Аргенида» Барклая. В политическом существовании абсолютистского двора этот роман отводил осязаемое место вымыслу, воплощенному в фигуре придворного поэта Никопомпа.
Среди прочего, в «Аргениде» содержится следующая сюжетная линия. Покушение на царя Мелеандра, затеянное в его покоях противостоящими ему феодалами, в последнюю минуту предотвращено Теокриной, спутницей дочери Мелеандра Аргениды. В обличье Теокрины скрывается принц Полиарх, возлюбленный и будущий супруг Аргениды. Отразив натиск покушавшихся на ее отца убийц, Полиарх вынужден бежать, чтобы не выдать себя. Пораженный царь приписывает свое спасение богине-воительнице Палладе, которую он прозревает в чертах исчезнувшей Теокрины. Мелеандр оглашает историю своего спасения на «всенародном Сицилиан собрании» во время «пятидневного торжества» в честь Паллады и посвящает свою дочь в жрицы этой богини (Аргенида 1751, II, 198–199).
Хорошо осведомленная о хитростях Полиарха Аргенида оставляет в неведении своего отца, слишком медленно осваивающего жестокую мудрость самовластия, и умело пускает в ход медиальную механику политико-богословской аккламации. После речи Мелеандра о своем божественном спасении
<…> превеликий шум от слышащих начался. Изволите знать человеческия сердца, а особливо где много людей; способно они великих и необыкновенных дел, богов производителями определяют, и вливается суеверие с некоторым устремлением. Сверьх того, славно было для Сицилии, что сами боги сражались за Царя. И так, по Царской речи следовал воинский шум, Минерву Тритонскую всеми именами призывающий, которыя ей или ея художества, или посвященные места дали. Сии с суеверия; другии, чтоб Царю угодить; прочии любя безмерно своевольство радования (Там же, 194).
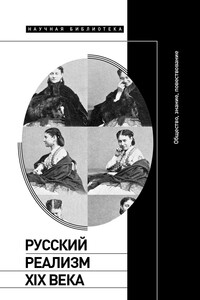
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.