Придурок - [22]
И она подставила ему пупырышки своих грудей.
— Да не так!.. — и она стала водить его пальцем по своим соскам. — Ой, как приятно!.. — а потом взялась за пояс его брюк, и он невольно задержал эту руку.
— Ну, ладно. Ну, сам, — сказала она и улеглась на кровать. Прямо на покрывало. — Ну, что ты тянешь! Скоро Рая придёт…
«Зачем я это делаю, боже!..»
И он прилёг сбоку, чтобы изобразить хоть какое подобие ласки, но она сразу потянула его на себя:
— Ну, что же ты… ну!.. — и он как-то стал перелазить через её ногу, чтобы оказаться между, а она плоско лежала под ним, и неожиданно стала покрикивать из-под него:
— Да, не туда же!.. Левее! Ну… вперёд… Да, где же ты там?!! Ну!.. ну!.. ты! Ну! — покрикивала она, торопя его, торопя его, но куда? Куда?.. боже!..
И он был на ней, и не знал, куда девать себя и своё тело, потому что всё было дико… — дико безобразно всё было. И с ним случилось то, что с подростками часто бывает по ночам. Вдруг оказалось у него там что-то маленькое и мокрое, похожее на плевок, и ему совсем нечего было делать на этой тощенькой и глупой девчонке.
Она не поняла сперва:
— И это всё-ё-ё!.. — протянула она, когда он вновь полез через её ногу. Он сидел на краю кровати…
— Ты что, больной?.. — недоумение было в её голосе. В голосе, потому что он не видел её, — он на неё не смотрел и видеть её не мог.
— Он что?.. он у тебя такой… он такой маленький?..
— Только бээфом всю меня перепачкал и всё, — говорила она что-то непонятное, но это только сперва, потому что он взглянул на неё, увидел, что она вытирает, припасённым заранее полотенцем, между ног и ноги, и догадался вдруг, что говорит она про клей БФ. Что клеем называет. Бээфом?..
Почему-то это показалось ему грубым и особенно обидным, но имел ли он право обижаться? А?
— Это, наверное, лечится, — предположила она, — но давай договоримся, это твоя забота. Ты будешь лечиться и будешь мне докладывать, ладно?! — Она уже опять приказывала.
Она была явно озадачена, но она была вовсе не озабочена, и слава богу.
Когда Рая пришла, они скрылись в родительской комнатке, и о чём-то шептались там, и оттуда доносились какие-то вскрикивания и задавленный смешок, а потом они вышли, и Рая сперва таращилась на него, но потом поняла что-то. Конечно, поняла она всё по-своему, но в этом ли дело? Боже! Всё двигалось, наконец, к развязке. Она была уже близка. Вот: часок, другой, третий — и вот она, свобода.
На вокзале всё ждали, когда нужно будет прощаться, и Рая брала всё его за руку, а когда пришла пора, сказала:
— Пока, родственничек, — и прижалась, и поцеловала, а Аля чмокнула его в ухо:
— Ты смотри, лечись, а то я возьму и брошу тебя, — сказала она.
— Это я шучу, — сказала она.
А потом поезд ушёл. И всё.
Когда он вышел на вокзальную площадь, голова его болела, болела так, словно сдавливают её какими-то тисками — какими-то огромными тисками. И пуста была голова его — не было в ней никаких мелодий, и смысла в ней совсем никакого не осталось: пуста была голова его. И тело его было пустым, вышли, покинули его жизненные его силы. И не было ритма в его теле, не слышно было жизни сердца его. Словно в огромной железной бочке, в этом огромном резонаторе, где можно услышать шелест струящейся по венам крови, словно пришла в бочку ту гулкую гулкая тишина. Мёртвая тишина пришла.
И тогда он увидел свет. И этот свет был нетерпимо белым, бесшумным — словно матовым флёром затушил он зелень и те тени, которые бессильно бросали на землю выгоревшие, бледные деревья.
Он уже видел однажды такой белый свет…
Это было давно, это было в году, может, пятьдесят втором, когда они только приехали в город, и город ещё был чужим. Иногда он думает, что это был сон, потому что вот так же была выжжена белым светом улица Советская, и потому что казалось, жизнь остановила свой ход, потому что никого не было в той утренней выгоревшей улице, и только он, только этот обрубок человеческий, прыгал на единственной оставленной ему ноге. Прыгал на единственной, оставленной ему для жизни, ноге этот человеческий обрубок из недавней ещё войны, прыгал безрукий, потому что плечи кончались плечами самими, а дальше ничего уже не было, только полоскались пустые рукава мужской нижней рубахи. И он удалялся, он исчезал впереди, потому что солнце выжигало из улицы эту фигуру, и остановившимся казалось холодное от ужаса сердце мальчишки…
«Вот так это было, дорогой мой Лёшенька», — говорил он себе, когда дожидался меня внизу, в раздевалке «публички», словно продолжал разговор свой с Лёшкой. В тот день Аркаша звал его на вечер к «мадам» Левицкой, и ему очень хотелось туда пойти, потому что позвали его на Бродского, который «обязательно будет».
Да, обращался он будто бы к Лёшке Давыденкову, но говорил-то себе, потому что ни в ком не находил удобного себе собеседника, разве что только — меня, но я был другой, и он ещё не решался впускать меня в душу свою, потому что я был совсем другой. Я всегда знал, что мне в жизни нужно, я всегда ставил в жизни цели и шёл к ним, как лом входит, упрямо и не задерживаясь на мелочах — я знал себе цену. Всегда. И если жизнь сбрасывала меня с каких-то высот, я успевал всегда, как живучая кошка, приземлиться на «лапы» свои, чтобы продолжить свой бег вперёд. Я не любил смятения в себе. Я был другой, и меня не надо было посвящать в закоулки его памяти. Ведь это я рассказал ему, откуда эта его тяга к игре в имена. Я говорю — игра, но для него это было, хотя и неосознанно, но вполне — и даже… — было это очень серьёзно для него. И происходило от одного: от сознаваемой им ущербности своей — он знал всегда о своей неполноценности, он хотел бы быть как все, но быть как все — значило оторваться от своих «погружений» или «улётов», если вам больше понравится такое обозначение его состояний, состояний, которые ему так были необходимы… Иногда он хотел сказать то, что узнавал, находясь в себе, он начинал говорить, но прекращал сразу, потому что видел, что не понимают его. И это было удивительно, потому что он говорил вполне простые и понятные вещи, и ребята некоторые могли так же, как он, сказать что-то, что не относилось вовсе к тому, что делали они в этот момент, и их слышали и понимали, а его слова встречали всегда пустые глаза ребят, словно и не говорил он вовсе. И вот тогда, вот тогда он и создал себе собеседников, этаких фантомов, как сказал бы я теперь, и тогда одиночество его кончилось. Наверно, произошло это очень давно, потому что он и сам не помнит, когда. Его собеседники, видно, имели свои имена, а он сам мог называть себя по-разному, но чаще всё же Петей. А в подъезде его звали Ильёй, потому что, когда его спросили: «Как тебя зовут, мальчик?» — Он так и ответил: «Илья», — потому что Ильёй и был в тот момент… Конечно, все потом узнали настоящее его имя, и Ильёй называли сперва шутя, но потом, видно, привыкли.

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
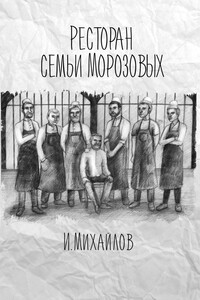
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!