Предания случайного семейства - [38]
— А ты что же не идешь туда? — спросил Николай у Ве-ни.
— Я жду Витюлю, — ответил тот. — Ты знаешь Витюлю?
Уже подымаясь выше, Николай кивнул, невольно вытирая о себя ставшие липкими от пожатий и от перил, за которые он неосторожно схватился, руки. Витюля этот был какой-то темной личностью, но Николай помнил смутно, что он вместе с ним начинал когда-то учиться. Окрестные дворы и дома были наполнены этими бесконечными Витю-лями Вовулями, Лесиками, Колюнями и Шураями, еще некоторое время назад сопливыми, замурзанными, подающими надежды способными детьми, которые, внезапно и прежде срока развившись в городе, заматерели, и плебейство их, такое забавное раньше, вдруг повылезло изо всех щелей в каждом их слове и жесте и сделалось непереносимым. В силу ли более глубокой уже, внутренней несовместимости, природы которой он не понимал, но он чувствовал себя чужим им всем, хотя поспешно кивал, что знает, что знаком с ними, хотя здоровался и разговаривал с ними, а они, в свою очередь, смотрели на него с удивленьем, ощущая тоже это несродство и тоже не вполне постигая его причины. Конечно, некоторые из них не то что «рано развились» или «подавали надежды», но, при всей молодости своей, подлинно созрели и сформировались для зла, а попросту говоря, были обыкновенной шпаной, какой много было в послевоенные годы, подворовывающей, приблатнившейся, страшившейся, но одновременно ждущей тюрьмы и лагерей, чтобы выйти оттуда уже совершенно утвердившись, обретя свое Я. Таких он боялся и ненавидел. Но поразительно, что и с вполне благонамеренными своими одноклассниками он не мог похвастаться настоящей близостью. Большинство из них было ему не интересно духовно, — он не посмел бы еще определить это так, ему показалось бы это высокопарным, — поэтому определял «просто неинтересны». С теми же, с которыми ему могло быть интересно, то есть с теми, о ком говорили в те времена «хорошо развитый юноша», с этими тоже если и был контакт, то не было искренности, благодаря тому, что все же не удовлетворялись в них какие-то его представления о том, каким должен быть идеальный или близкий к идеальному приятель. Первично это шло, может быть, как раз от матери, чересчур разборчивой здесь именно потому, что все реальные приятели казались ей ближайшими сподвижниками случая; сама Анна не допускала и мысли, что подозрительность ее может быть объяснена из чего-то другого, кроме «этого законного беспокойства», объяснена, например, отсутствием должной скромности или смиренной готовности принять людей такими, каковы они есть, или, более сложно, — возмущением, которое многие испытывают при встрече с не-Я, с другой личностью. Но Николай думал чаще всего именно так, особенно когда взаимное неприятие обнаруживало вдруг себя в стремлении к первенству среди остальных, ненужному и никчемному. Сознавая свою вину, он мучился, но ничего не мог с собой поделать, восставая против чужого влияния или авторитета чаще всего по пустякам. То, что теми, другими двигала та же страсть, было некоторым утешением, но они лучше умели вести дела, и в проигрыше всегда был он, ибо эти его отношения роковым образом портились, и это он выходил из игры, не доведя до конца своего восстания.
Впрочем, все переживания эти существовали у него на подсознательном уровне: как и дед его, живя грезой, воображением этой идеальной дружбы или идеальных отношений, но не мыслью, он и не пытался никогда понять, что же нужно ему для того, чтобы видение его воплотилось. Только боязнь остаться совсем одному, выпасть из общего нейтрализовала как-то всегдашнее отталкивание. Сейчас, подходя к дверям Геворкяна, одноклассника его, сделавшегося в последний год как бы притягательным центром для всех них, он испытывал лишь всегдашнюю сумятицу чувств, какую-то неловкость, желание не идти туда, чему он не умел ничего противопоставить, кроме столь же панического и сумбурного намерения переступить порог как можно скорее, чтобы как можно скорее снять это напряжение отчужденности, которое, чудилось ему, было сильней, когда он был не с ними. «Ты не любишь Геворкяна? — спрашивал его другой их школьный приятель, здоровенный и простодушный малый по фамилии Валюев, необычайно Геворкяну преданный. — Это потому, что ты ему завидуешь. Ты сам хочешь быть первым…» Кнетъирин настаивал тогда, что это ошибка, что он не хочет вовсе быть первым, «но и признать за кем-то еще это первенство над собой я не хочу» — говорил он. Это была сущая правда, подтвердившаяся потом всею его судьбой, и даже роковая в ней: что-то всегда мешало ему быть первым, первенство требовало каких-то издержек, на которые он был не согласен, но и признать над собой чью-то власть он не мог.
Он постучался и, услышав из-за двери деланный бас Геворкяна: «Прошу!» — повернул торчавший снаружи в скважине английского замка ключ и отворил дверь. Пришли еще не все, кто должен был прийти, он явился четвертым. У неубранного утреннего стола, застланного грязной, драной скатертью, усыпанной густо хлебной крошкой, потому что хлеб резали прямо на скатерти, вперемежку с окурками, вывалившимися из переполненной, к тому же с отбитым краем пепельницы, заставленного грязными тарелками, сдвинутыми к стороне, и гранеными стаканами с кофейной жижей, сидел сам Геворкян, спиной к двери, его мать, Белла Григорьевна, или за глаза просто Белла, и еще один их приятель из соседнего дома, на год старше их, — Кессельн. Это и был загадочный приятель, который нынче организовывал встречу Нового года и о котором так допытывалась у сына Анна Николаевна. Неизменный Валюев полулежал слева на кушетке, сколоченной из нескольких ящиков, набитых старьем, и досок, покрытых матрацем и сверху истертым ковром. Тощий матрац и сейчас выглядывал из-под сползшего покрывала.
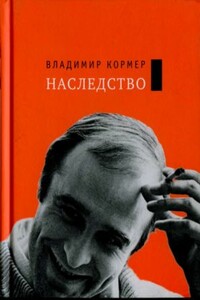
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Роман «Наследство» не имел никаких шансов быть опубликованным в Советском Союзе, поскольку рассказывал о жизни интеллигенции антисоветской. Поэтому только благодаря самиздату с этой книгой ознакомились первые читатели.
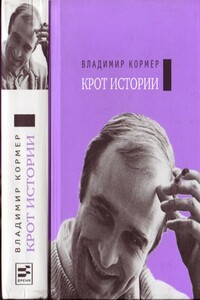
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание...») и общества в целом.
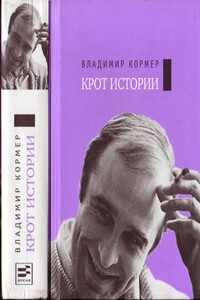
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.
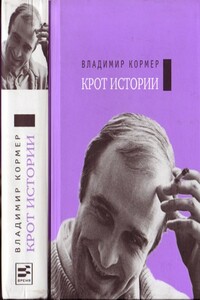
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.
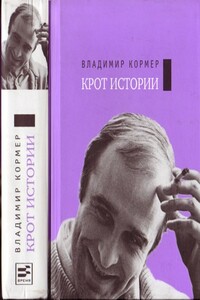
Единственная пьеса Кормера, написанная почти одновременно с романом «Человек плюс машина», в 1977 году. Также не была напечатана при жизни автора. Впервые издана, опять исключительно благодаря В. Кантору, и с его предисловием в журнале «Вопросы философии» за 1997 год (№ 7).

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности Почетного академика, дважды Героя Социалистического Труда Т.С.Мальцева. Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


