Повести Вильгельма, извозчика парижского - [13]
Очень я понял из этих слов то, что мамзель Дусиор хотела сказать как о себе так и госпоже; но я не мог себе вколотить в головищу, чтобы аббе способен был к вещам сего рода между хозяйкой и служанкой, что довольно было бы одной из двух для одного совсем человека; и еще пришло мне то в мысль, что этот змеиный язычишко хотел меня уверить, как будто ребенка, что госпожа Вильгельмша имеет свою долю в лепешке, тем наиболее, как я знал сам собой, что жена моя тут и губ не обмакивала, а потом, впрочем, письмо его, писанное к ней, ничего такого не сказывает, как он говорил госпоже.
Приходя и проходя дни, как говорит иной, наступил между тем наконец, что мамзель Дусиор, зная больше, нежель я, о том, что касалось до нее со стороны господина аббе, который нехорошо поступал с ней в этом случае; и за то довела она это до ушей боярыни, которая чрез несколько времени никакого виду не показывала, чтоб сыграть ей лучше свою игрушку, как вы увидите после этого.
Что касается до мамзель Дусиор, то сказала она с своей стороны, что едет она к своим родителям на свою родину: но были в доме люди, кои очень знали, что она голубком полетела в голубятню одной повивальной бабки.
Госпожа Вильгельмша заступила ее место горничной при нашей хозяйке, которая приказала ей спать подле своей опочивальни, растворя двери по причине, что с некоторого времени воображает она себе, будто видит по ночам духов, коих она боится, и это было для ее ободрения: ибо не полагалась она на господина аббе, который сказывал, что никогда не бывало с того света выходцев, как только в голове добрых жен. Не очень был я доволен сей переменой, которая помешала мне ходить к жене моей так, как я иногда делывал в маленькой ее горенке. Наконец я сделал моим разумом, что ночью ходил я к ней на постель, как уже она ляжет спать, темной маленькой лестницей, и всегда на самой заре убирался прочь для чистки моих лошадей.
Однако в один день, не знаю, как это могло сделаться, так я крепко заснул, что и не вздумал по обычаю встать на рассвете дня, который видел входящей в окошко, у коего не закрывал я занавесов; как было тепло во всю ночь, то я совсем раскидался, лежа на краю постели, будто зная, что никто на меня смотреть не будет.
Проснувшись, услышал я шастанье в боярской спальне, как будто кто ходит. Тотчас я увидел чрез кроватную ножку, что это госпожа Аллень, будучи в одной сорочке, шла в ту комнату, где я был. Видя себя пойманного, как лисицу во ржи, вздумал я сделаться спящим, и притворился храпеть, не шевелясь ни рукой, ни ногой, покуль сидела госпожа на своих креслах, кои стояли в углу комнаты против самого меня. Знают, что женщина-вдова была уже замужем, и она уж не ученица; это меня заставило так остаться, как я был, не переменяя моего положения, ни делая подобия проснуться, чтобы не иметь труда пред нею извиниться; а сверх того, почтет ли она за грех, что я лежал с моей женой.
Как скоро она вышла, то и я также пошел к своему делу, как всегда бывает, и все прошло в этот день по-обыкновенному.
В следующую потом ночь, хотел я идти видеться с госпожой Вильгельмшей, но маленькие двери нашел я заперты. Это заставило меня подумать, что так сделано было по приказу боярыни, коя не захотела, чтобы я спал с моей женой. Это не очень мне было приятно. Постучался я тихонько у дверей; но как жена моя мне их не отперла, то подумал я, что теперь она в первом сне; почему и воротился я назад как не солоно хлебал.
Поутру, как я в пять часов с полуночи был у моих лошадей, увидел я в окошке боярыню, которая махала мне, чтобы взошел я по большой лестнице вверх; она отперла сама все двери, и как на мне были конюшенные туфли, то приказала мне она оставить их в передней, чтобы не наделать стуку.
Не знал я, что думать о всем этом манеже: ибо она была только в одной коротенькой исподнице; однако, сказала она мне, если ты мне обещаешься ничего о том не говорить, что я тебе покажу, то будешь иметь случай мною хвалиться. Я все ей обещал, чего она желала, и повела она меня сквозь свою спальню в ту комнату, где спала моя жена, где я видел ее в своей постели и подле ее растянувшегося аббе, которые оба спали крепко.
Сие видение так меня сильно ужаснуло, что когда бы я не обещался госпоже Аллень ничего не говорить, то не мог я произнести ни одного слова. Боярыня моя вытащила меня даже в переднюю, у которой двери заперла за нами, и потом сказала мне: Ну, Вильгельм, что ты думаешь о том, что теперь ты видел? Ах! Сударыня, отвечал я ей, никак я этого не ожидал; оно весьма бесчестно для человека сего одеяния. Может быть, по причине характера не осмелился бы я к нему прикоснуться, но что до жены моей, которая того не имеет, то я ее вам так проучу, что скоро заговорит она: полно, полно! Из этого ни больше, ни меньше не прибудет, бедный мой Вильгельм, сказала она, а шум, который ты наделаешь, уведомит весь свет о том, о чем хорошо было б, если б он не знал, как для твоей чести, так и для чести моего дома; однако, нимало не беспокойся, я знаю способы, как за тебя отмстить, и сего ж дня увидишь ты, как за сто возьмусь. Окончай уборку твоих лошадей и в десять часов пойди ты к его преподобию отцу Симону, и скажи ему, что я прошу его прийти сегодня у меня отобедать.

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.
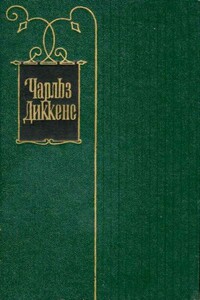
«Приключения Оливера Твиста» — самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений — все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира. Роман впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley's Miscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса.

Книга «Поизмятая роза, или Забавное похождение прекрасной Ангелики с двумя удальцами», вышедшая в свет в 1790 г., уже в XIX в. стала библиографической редкостью. В этом фривольном сочинении, переиздающемся впервые, описания фантастических подвигов рыцарей в землях Востока и Европы сочетаются с амурными приключениями героинь во главе с прелестной Ангеликой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
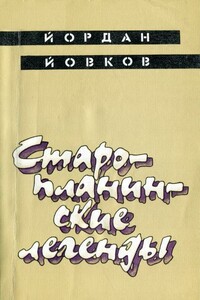
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».

Книга Л. Неймана «Парижские дамы» — галерея остроумных и пикантных портретов парижанок последних лет Второй империи от хищных девиц из предместий, модисток, гризеток и лореток до куртизанок высшего полета, светских дам и «синих чулков».

В новом выпуске серии «Темные страсти» — первое современное переиздание книги видного поэта и прозаика русской эмиграции В. Л. Корвина-Пиотровского (1891–1966) «Примеры господина аббата», впервые вышедшей в 1922 г. Современники сочли этот цикл фантазий, в котором ощущается лукавый дух классической французской эротики, слишком фривольным и даже порнографическим.

Повесть А. А. Морского «Грех содомский», впервые увидевшая свет в 1918 г. — одно из самых скандальных произведений эпохи литературного увлечения пресловутыми «вопросами пола». Стремясь «гарантировать своего сына, самое близкое, самое дорогое ей существо во всем мире, от морального ущерба, с которым почти зачастую сопряжено пробуждение половых потребностей», любящая мать находит неожиданный выход…

Новую серию издательства Salamandra P.V.V. «Темные страсти» открывает декадентско-эротический роман известных литераторов начала XX в. В. Ленского и Н. Муравьева (братьев В. Я. и Н. Я. Абрамовичей) «Демон наготы». Авторы поставили себе целью «разработать в беллетристических формах и осветить философию чувственности, скрытый разум инстинктов, сущность слепых и темных влечений пола в связи с общим человеческим сознанием и исканием окончательного смысла». Роман «Демон наготы» был впервые издан в 1916 г. и переиздается впервые.