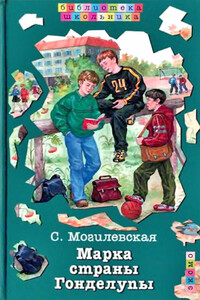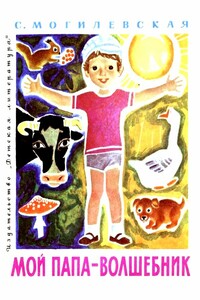'В горнице душно. Репетиция идёт давно. Начали, когда сквозь небольшие квадратные оконца ещё пробивался неяркий свет пасмурного осеннего денька.
Сейчас пришлось зажечь несколько свечей, вставленных в медный шандал.
От большой печи, облицованной нарядными блестящими изразцами, так и пышет.
Подняли оконную раму. Всё равно жарко.
Распахнули настежь и дверь горницы.
В руках у Волкова книжка, которую ещё летом купил он в Москве у старого лоточника на Красной площади. Роли распределены примерно так, как он тогда же наметил: Кия, князя Российского, будет представлять Иван Иконников; Хорева, брата его и наследника, — он, Фёдор Волков; Завлоха, бывшего князя Киевограда, — брат, Гаврила Волков; Оснельду, дочь Завлохову, — Иван Нарыков...
Так уж повелось у них: слово Фёдора Григорьевича — закон для всех его товарищей. Хотя среди них он и не самый старший, все охотно подчиняются ему, слушают его советы.
Сейчас Фёдор Григорьевич слушает, как Ваня Нарыков говорит роль Киевской княжны Оснельды. В те времена женские роли обычно исполняли мужчины. Не принято было женщинам выступать на сцене. Впрочем, Ваня Нарыков вполне подходит для женских ролей, которые обычно играет во всех комедиях и трагедиях: среднего роста, худощавый, с тонкими чертами лица, красивыми ласковыми глазами.
Волков и Ваня Нарыков стоят посреди комнаты. Все остальные сидят: кто на скамьях вдоль стены, кто на тяжёлом, окованном железом сундуке, а кто просто на полу. Молча слушают.
— Ты вникни, Ваня... Вникни в душу молодой, пленённой врагами княжны! — обрывая Нарыкова на полуслове и горячась, восклицает Волков. — Пойми силу её чувств! Дочерняя любовь к отцу борется с пламенной любовью к Хореву, врагу отца...
И Волков сам начинает говорить монолог Оснельды. Он говорит с увлечением, то понижая голос до шёпота, то громко, со страстью произнося отдельные слова и фразы.
Стеню беспомощно, крушуся безнадежно,
Лиется в жилах кровь, тревожа дух мятежно,
Терплю и мучуся без всяких оборон;
Ни людям, ни богам не жалостен мой стон...
— Ах, Фёдор Григорьевич! — восклицает Ваня, когда Волков кончил. В голосе его почти страдание. — Разве я не понимаю? А начну — и застревают слова... Вижу, что говорю не так, а как... пока не пойму.
— Повтори сызнова! — говорит Волков. Лицо его становится сурово, даже несколько угрюмо. Ни тени улыбки в глазах. Губы сжаты. Таков он всегда в часы работы — строгий, не дающий спуску ни себе, ни товарищам. Безжалостный к малейшему попустительству, особенно если это касается любимого им театрального дела.
Ваня начинает снова:
Стеню беспомощно, крушуся безнадежно...
И никто не заметил, что возле дверей, распахнутых настежь, уже давно стоит девушка, худенькая, в старом домотканом сарафане. Коса у неё перекинута на грудь, руки мнут цветастый платок, сдёрнутый с головы. А глаза с жадным вниманием смотрят на всё, что происходит сейчас в комнате.
Как попала она сюда? Вот так и попала. Бежала за одним, нашла другое...
Настя давно потеряла счёт не только минутам, но и часам, что находится она здесь. Сперва, кажется, был дневной свет, а теперь вот горят свечи... Забыла она думать о купоросе, за которым прислана сюда. Забыла, что велено ей было слетать и мигом вернуться обратно. Обо всём она забыла.
Сейчас она вся превратилась в слух, стараясь и умом и сердцем вникнуть в то прекрасное и непонятное, что происходит перед ней.
Какие только слова! Какие же слова здесь говорят! Этаких она ещё никогда не слыхала. Нет, они не сказку представляют. Такое и вправду может случиться.
Ей жаль до слёз прекрасную княжну Оснельду. Бедняжка, как убивается, как горюет, что нет ей счастья с милым.
Настя, чуть шевеля губами, следом за Ваней Нарыковым повторяет Оснельдины слова:
Ни людям, ни богам не жалостен мой стон...
Дали бы ей сказать. Она умолила бы грозного отца не мешать её любви. Приложила бы обе руки к сердцу. Упала бы перед ним на колени. Слёз бы не пожалела.
«Батюшка родимый, неужели не видишь, как душа моя тоскует...а
Незаметно для себя Настя сперва оказалась на пороге горницы, а потом, сделав несколько небольших шагов, очутилась и в самой горнице, где шла читка пьесы.
Кто-то попробовал оттолкнуть её обратно к дверям. Но она была сейчас как во сне. Не поняла, что от неё хотят. Только молча отвела плечом руку, которая её толкала — мол, не трогайте меня, не мешайте мне, — и осталась стоять где стояла.
И было во взгляде этой девушки и в том, с каким страстным и пристальным вниманием слушала она, нечто такое, что её больше не трогали и позволили находиться здесь.
А Ваня Нарыков, произнеся последние слова, с надеждой и тревогой взглянул на Волкова: ну что? Так или не так?
И вдруг за спиной, из темноты, куда еле доставал неяркий свет свечи, кто-то с тихим вздохом проронил:
— Нет, не так.
И Ваня Нарыков и Волков оба быстро повернулись на голос, и оба увидали Настю.
Брови у Волкова нахмурились: откуда она взялась? Кто такая? Он не терпел, когда посторонние присутствовали во время репетиций,
— Ты здесь зачем? — резко спросил он Настю. — Кто позволил?
А Настя... Что только на неё нашло? Откуда смелость взялась? Она ничуть не испугалась ни этого сердитого голоса, ни этих нахмуренных бровей, ни холодного блеска, который появился в глазах Волкова.