Последний раунд - [18]
Останусь тут, думает Любочка, смотрясь в воду, уже начинающую темнеть, не вернусь домой, нечего там делать — совсем никуда не вернусь.
Вода словно замерла — сонная, без ветра; Любочка знает, что сестра будет искать ее, что придет сюда и расскажет про поезд, про фотографию — но сестра не приходит. Небо почернело, воздух остыл — Любочка встает, отряхивает край платья, идет по песку. Из-за облаков выходит луна; Любочка видит следы, решает, что они с сестрой разминулись, бежит обратно — никого: над пирсом, перепуганная, взвивается стая птиц. Она еще раз всматривается в песок: если и были чьи-то следы, они вконец перепутались с ее собственными.
Отца на веранде нет — неужели она так поздно? неужели ее не хватились? Соня, незаметная в отцовском кресле, почти совпавшая в темноте с полинялой обивкой, смотрит, как сестра расстегивает босоножки, как шагает на веранду и открывает дверь, как исчезает внутри дома. Теперь она ищет — в комнате, в кухне, в каморке, где хранятся простыни; она спрашивает себя, почему не горит свет, почему не готов ужин, почему отец заперся в спальне. Соне не хочется отвечать, не хочется ничего рассказывать — хочется вот так сидеть, перебирая в уме вечера, которых больше не будет, перебирая всякие мелочи, которые теперь не значат ничего, которые теперь безнадобны, — следы паводка на обоях, вазочку с орехами, потертый фанерный чемодан. Она не поднимется в комнату, просидит всю ночь на веранде и завтра с петухами уйдет к морю, будет часами глядеться в воду, расчерченную воспоминаниями, будет рассказывать этой холодной, безразличной пустыне обо всем — и какая-нибудь нежданная волна ударится с грохотом о берег: так обреченно, бессмысленно.
Локти рубашек между половинками чемодана, разноцветные ромбы на обоях, вазочка с орехами или изюмом — все такое горячее, вязкое. Любочка открывает глаза, видит лунную желтизну в занавесках; простыня мокрая, пододеяльник тоже, во всем теле жарко и тяжело. Через минуту она в комнате сестры — кое-как ложится рядышком с ней на кровати, уткнувшись в край подушки. Сестра не просыпается — а может, не хочет просыпаться — и снова ромбы, изюм, столбы на станции, колеса бьются о рельс, несут вагон прочь, еще дальше, дальше. Колея поворачивает, все во сне кренится, но движение неумолимо, движение не прекратить, движение, движение, движение. Утром горчичники, порошки, микстура; через неделю Соня, наполняя ложку сиропом от кашля, вдруг подумает, что вот, казалось бы, обычная простуда, ничего такого — а время будто остановилось: отец не вспоминает о ссоре, и сестра ничего не спрашивает — только наволочки на соседских веревках сменяются сорочками, сорочки — наволочками. Через неделю Любочка спросит про поезд и, слушая сестру, представит, как Сережа берет фотографию и долго держит ее в руках — на перроне, потом в купе, а потом, через много-много дней, находит ее, вложенную между страниц учебника, и вместо того, чтобы учить свою материю, смотрит на косички, фартук и шрамик под глазом. Через неделю они с сестрой пойдут вдоль крыжовника, на котором проклюнулись первые ягоды, и сестра поставит ее между бетонных столбов и бережно повернет ее голову вправо, туда, где колея бежит, бежит за грязно-розовый угол станции. Через неделю будет воздух, будет море, но сегодня тридцать восемь и восемь на градуснике; Любочка сжимает в ладони край простыни, смотрит на воздух через окно. Сумерки — с предмета на предмет: чего бы ни коснулись, все тотчас тлеет, жухнет. Любочка замечает голубя — вот он жмется к стеклу: глаза-бусины, желтые пятна по клюву, перья взъерошены. Голубь смотрит на Любочку неотрывно, пронзительно, хохлится, почти валится на бок. Только бы не упал, думает Любочка, карниз вон какой узкий, того и гляди упадет, ах, дружок, и мне тоже плохо, уже третий день, плохо и горячо, впустить тебя, что ли, согреешься, почувствуешь себя не таким одиноким. В ответ тот же взгляд — неподвижный, тоскующий — и Любочке страшно: что, если голубь знает, знает так же ясно, как и она, пусть и не может сказать? Ей кажется, вот он, сизый, за стеклом, так близко, встань и сделай два шага — и секунду спустя она сама цепляется за карниз, смотрит на свое лицо в окне, а лицо дрожит и уплывает вглубь комнаты, и она летит, а под ней — взамен яблонь и крыжовника — целое море одноликих зданий, отлитых из серого бетона, и небо окроплено сотнями других птиц, и ночь горит тысячами окон.
Ночью был дождь, утром яблони стоят в каплях. На стекла давит туман, пахнет вымокшими листьями. Соня укрывает сестру одеялом, садится в гостиной с вязанием. Выходит плохо: нитки влажные, склеиваются. Почти неделя, говорит себе Соня, накидывая на спицу очередную петлю, без одного дня неделя, а я жива, я тут, а он там — и все равно жива. Она вспоминает Сережин дом — тощий кустик на крыше, лавка, окошко с трещиной над крыльцом — и решает поплакать, но слез отчего-то нет — только сдавило в животе. Она бросает спицы, оглядывается: вместо вазочек, салфеток, гребешков, пакетиков с сушеной мятой, вместо тесных буфетов, вместо шифоньеров, полных ситца и хлопка, вместо мерцающих и звонких сервантов — белые стены, голый стол безо всякой посуды, даже без скатерти, пустые стулья. Куда ни посмотришь — без конца повторено одно и то же: голое и пустое. Соня думает, что все в гостиной и в доме вообще создано не с тем, чтобы жить, а единственно для того, чтобы умереть в этом скорбном окружении. А я жива, еще раз говорит себе Соня и вспоминает, как впервые увидела Сережу: она — первоклассница, Сережа — третьеклассник. Все было по-другому: еще была мама, еще не было Любочки, и не было этой мысли куда-то ехать, сдавать экзамены, учиться так далеко, так долго. Вот они с Сережей в поле — по пояс в траве — она слышит смех и полужухлый шелест. Они бегут — Сережа, по обыкновению, кузнечиком: весь отстает от земли, легкий — легче ковыля. Она не успевает, понемногу замедляется, наконец замирает. Он уже на крыльце, дважды зовет ее — напрасно: она обиделась — ненадолго, конечно. Потом его комната во флигеле: рыжий бархатный картон, модель Биг-Бена с крохотными дырочками окон, орехи или изюм. И книги — Буратино, Маугли и Винни-Пух — мальчик будет всегда играть со своим медвежонком — Соня поворачивается к книжному шкафу, стеклянные дверцы которого не открывались с тех пор, как мама умерла. Нет, не с тем, чтобы жить. Для того, чтобы умереть. А я жива.

Тимур Валитов (р. 1991) – прозаик, дважды финалист премии «Лицей» за сборники «Вымыслы» и «Последний раунд», лауреат премии журнала «Знамя». Рассказы также входили в шортлисты литературной премии Дмитрия Горчева и Волошинского конкурса. Произведения переведены на немецкий и болгарский языки. «Угловая комната» – дебютный роман. Лето 2018 года. В России гремит чемпионат мира по футболу, но молодому герою не до спортивных состязаний – личная трагедия вырывает его из московской размеренной жизни и возвращает в родной город.

Кабачек О.Л. «Топос и хронос бессознательного: новые открытия». Научно-популярное издание. Продолжение книги «Топос и хронос бессознательного: междисциплинарное исследование». Книга об искусстве и о бессознательном: одно изучается через другое. По-новому описана структура бессознательного и его феномены. Издание будет интересно психологам, психотерапевтам, психиатрам, филологам и всем, интересующимся проблемами бессознательного и художественной литературой. Автор – кандидат психологических наук, лауреат международных литературных конкурсов.

Внимание: данный сборник рецептов чуть более чем полностью насыщен оголтелым мужским шовинизмом, нетолерантностью и вредным чревоугодием.

Автор книги – врач-терапевт, родившийся в Баку и работавший в Азербайджане, Татарстане, Израиле и, наконец, в Штатах, где и трудится по сей день. Жизнь врача повседневно испытывала на прочность и требовала разрядки в виде путешествий, художественной фотографии, занятий живописью, охоты, рыбалки и пр., а все увиденное и пережитое складывалось в короткие рассказы и миниатюры о больницах, врачах и их пациентах, а также о разных городах и странах, о службе в израильской армии, о джазе, любви, кулинарии и вообще обо всем на свете.
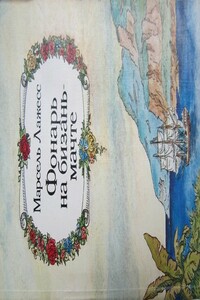
Захватывающие, почти детективные сюжеты трех маленьких, но емких по содержанию романов до конца, до последней строчки держат читателя в напряжении. Эти романы по жанру исторические, но история, придавая повествованию некую достоверность, служит лишь фоном для искусно сплетенной интриги. Герои Лажесс — люди мужественные и обаятельные, и следить за развитием их характеров, противоречивых и не лишенных недостатков, не только любопытно, но и поучительно.

В романе автор изобразил начало нового века с его сплетением событий, смыслов, мировоззрений и с утверждением новых порядков, противных человеческой натуре. Всесильный и переменчивый океан становится частью судеб людей и олицетворяет беспощадную и в то же время живительную стихию, перед которой рассыпаются амбиции человечества, словно песчаные замки, – стихию, которая служит напоминанием о подлинной природе вещей и происхождении человека. Древние легенды непокорных племен оживают на страницах книги, и мы видим, куда ведет путь сопротивления, а куда – всеобщий страх. Вне зависимости от того, в какой стране находятся герои, каждый из них должен сделать свой собственный выбор в условиях, когда реальность искажена, а истина сокрыта, – но при этом везде они встречают людей сильных духом и готовых прийти на помощь в час нужды. Главный герой, врач и вечный искатель, дерзает побороть неизлечимую болезнь – во имя любви.

Настоящая монография представляет собой биографическое исследование двух древних родов Ярославской области – Добронравиных и Головщиковых, породнившихся в 1898 году. Старая семейная фотография начала ХХ века, бережно хранимая потомками, вызвала у автора неподдельный интерес и желание узнать о жизненном пути изображённых на ней людей. Летопись удивительных, а иногда и трагических судеб разворачивается на фоне исторических событий Ярославского края на протяжении трёх столетий. В книгу вошли многочисленные архивные и печатные материалы, воспоминания родственников, фотографии, а также родословные схемы.