Последнее отступление - [3]
Захар разлил в стаканы крепкий первач. Выпили.
Павел Сидорович положил локти на стол, наклонился к Захару:
— Как там, а?
— Да как… Царю, известно, по шапке дали, слободу установили. Власть новая…
— Власть новая, — подхватил Клим, — а порядки старые.
— Оно, конечно, не совсем так, — Захар посмотрел на свет пустую бутылку, поставил на место. — Раньше, скажем, были «благородия», теперь — «господа». Однако оттого, что прозываются они иначе, умирать не легче. Я, слава богу, отвоевался. Теперь чихать, кто как зовется. Мое дело десятое. Буду земельку пахать.
— Хо-хо, земельку пахать! — засмеялся Перепелка. — Ишь, чего захотел. Разевай рот шире — дадут тебе пахать.
— Почему же, дадут, — сказал Павел Сидорович, скосив глаза на повисшую руку Захара. — А вот другим…
— До других мне дела нету. Всяк за себя отдувается.
— Ну-ну, — протянул Клим. — Окопы тебя, кажись, уму-разуму не научили. Зачни мы жить по твоему рассуждению — всем крышка будет.
— Что ты от меня хочешь? — удивился Захар. — Орать на улице: не желаю новой власти, подавайте еще новее? Нет уж… Каждому свое предназначено. Нам с тобой землю пахать, Павлу Сидоровичу царей с трону сдергивать. Так-то, Клим.
— Совсем не так! — дернулся Клим. — Из меня война все жилы вымотала. А дома? Дети жрали лебеду, пухли от голода! Дочка померла. Маленькая. Разор во всем! — Клим озлился, единственный глаз, как раскаленный уголь. — За все стребую!
— Эх, Клим, — вздохнул Захар, — что стребуешь? Голову расшиби, а не вернешь войной отобранного… — Увидев, что Клим крутит головой и сейчас снова начнет выкрикивать без пользы горькие слова, Захар призвал на помощь Павла Сидоровича: — Правильно я говорю?
— Да, конечно. Кто теперь вернет сиротам отцов, кто исцелит увечных? — Павел Сидорович задумчиво прищурился. — А война все идет. Каждый день умирают солдаты. Вот что самое страшное. Не остановим войну, все больше будет сирот, вдов, разоренных хозяйств. Война и тут, за тысячи верст от окопов, несет людям горе. Ты, Захар Кузьмич, говоришь — отвоевался. Да. Станешь пахать, сеять, а хлеб заберут: надо кормить армию.
— Тут еще бабка надвое сказала.
— Да нет, не надвое она сказала, бабка. Господа свое дело знают. Царя кто сбросил? Народ. А власть где? В господских руках, в руках царевых пособников. Потому и войне конца не видно. Пока мы всем миром не навалимся на господ и не отберем власть, будут умирать солдаты, нищать мужики.
— Так это али нет, я не скажу. А только не нашего ума дело — политика. Наше дело работать. — Спорить Захару не хотелось, не хотелось впускать в душу тревогу. Пропадай оно все пропадом! Он дома. В теплой обжитой избе. Рядом Варвара, Артемка. На кровати мягкие подушки в чистых наволочках… Да, он дома. И это главное.
Захар тихо радовался отдыху. Ни думать, ни говорить о тяготах не хотелось. Но разве убережешь себя от размышлений, если вся жизнь в деревне перекосилась, и все разговоры у людей — о горестях, обидах? Правда, Варвара не жаловалась, не приучена к этому.
— Жили, Захарушка, не сильно в достатке, но нужда, слава богу, стороной обошла. Другие горя нахлебались досыта. Оскудели люди совсем. Мужиков мало, а бабы, известно, с ребятней в поле много ли сделают? Климиха замытарилась со своей ордой. Девчонку не уберегла. И ни коня, ни коровы не осталось во дворе. — Руки у Варвары с поломанными ногтями, в мелких черных трещинах, лицо задубело, у глаз прорезались морщины. Рядом с широкоплечим, рослым сыном, она кажется маленькой и слабой.
— Почему никто не подмогнул?
— У каждого своя болячка, до чужой ли тут.
А сын, до того молчавший, сказал:
— О подмоге, батя, спрашиваешь? Будто не знаешь семейщину жаднючую! Увидит, что подыхаешь, вороньем налетит и глаза выклюет.
— Ну и сказанул! — Захар неодобрительно покачал головой. — Откуль тебе знать семейщину-то? Ты бурушок[1] еще, только-только на подножный корм выходишь. Рановато тебе судить людей, да еще всех скопом.
Артемка покраснел, пряча смущение, теребнул чуб, но не согласился с батькой:
— Не слепой, вижу, что к чему. Федот Андроныч корову последнюю с Перепелкиного двора свел, не постеснялся. Будь я на месте Клима, раскровянил бы морду кабану здоровому!
— Ого! Ты шустрый у меня! — удивился Захар. — Не хвалю. При нас с матерью толковать таким манером еще можно, но при людях язык придерживай. Слово — серебро, а молчание — золото. Недаром это сказано-то. Не зря, поди, увел корову Федот Андроныч?
— За долги.
— Ну вот. Кто же попустится своим добром?
— Добро добром, но и совесть должна быть.
— Вот ведь как! Ты ему одно, а он — другое. Это отцу-то? Старина забывается. От веку у семейских молодые помалкивают, когда говорят старшие…
А сын, что ни день, охотнее встревает в разговоры, и слова у него проскакивают какие-то непонятные, чужие, не мужицкие слова. Перенял, должно, у Павла Сидоровича. Дурное — оно прилипчиво.
И уже сердясь на сына, строго сказал ему:
— Ты смотри! К политике не прикасайся, живо попадешь в тюрьму. Да и на что воробью колокольчик?
Про тюрьму Захар сказал, конечно, для острастки. Сам он боялся пока другого. Не начал бы сын походить на Клима Перепелку, всем недовольного, не охладел бы к хозяйству. Клим только тем и занят, что о жизни судит-рядит на все лады. Забежит, свернет папироску в палец толщиной, сядет по-бурятски перед открытой печкой, жжет табачище и рассуждает:

Библиотека проекта «История Российского Государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.Исторический роман «Жестокий век» – это красочное полотно жизни монголов в конце ХII – начале XIII века. Молниеносные степные переходы, дымы кочевий, необузданная вольная жизнь, где неразлучны смертельная опасность и удача… Войско гениального полководца и чудовища Чингисхана, подобно огнедышащей вулканической лаве, сметало на своем пути все живое: истребляло племена и народы, превращало в пепел цветущие цивилизации.
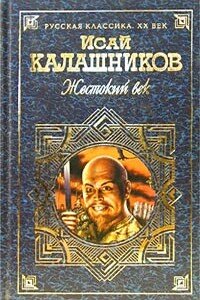
Войско Чингисхана подобно вулканической лаве сметало на своем пути все живое: истребляло племена и народы, превращало в пепел цветущие цивилизации. Вершитель этого жесточайшего абсурда Чингисхан — чудовище и гениальный полководец. Молниеносные степные переходы, дымы кочевий, необузданная, вольная жизнь, где неразлучны опасность и удача.
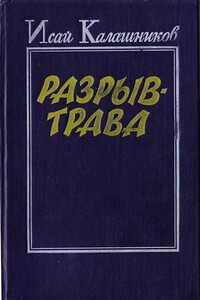
«Разрыв-трава» одно из самых значительных произведений Исая Калашникова, поставившее его в ряд известных писателей-романистов нашей страны. Своей биографией, всем своим творчеством писатель-коммунист был связан с Бурятией, с прошлым и настоящим Забайкалья. Читателю предлагается многоплановая эпопея о забайкальском крестьянстве. © Бурятское книжное издательство, 1977 г.
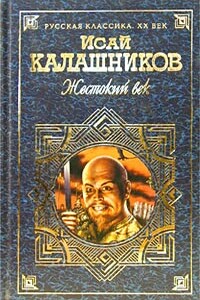
Войско Чингисхана подобно вулканической лаве сметало на своем пути все живое: истребляло племена и народы, превращало в пепел цветущие цивилизации. Вершитель этого жесточайшего абсурда Чингисхан — чудовище и гениальный полководец. Молниеносные степные переходы, дымы кочевий, необузданная, вольная жизнь, где неразлучны опасность и удача.

Повести народного писателя Бурятии Исая Калашникова, вошедшие в сборник, объединены темой долга, темой служения людям.В остросюжетном «Расследовании» ведется рассказ о преступлении, совершенном в одном из прибайкальских поселков. Но не детектив является здесь главным. Автор исследует психологию преступника, показывает, как замаскированная подлость, хитрость оборачиваются трагедией, стоят жизни ни в чем не повинным людям. Интересен характер следователя Зыкова, одерживающего победу в психологической схватке с преступником.Повесть «Через топи» посвящена воспитанию молодого человека, вынужденно оказавшегося оторванным от людей в тайге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
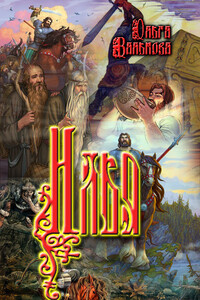
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
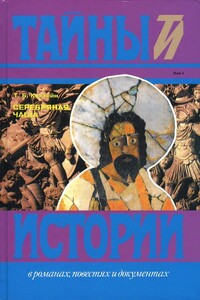
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
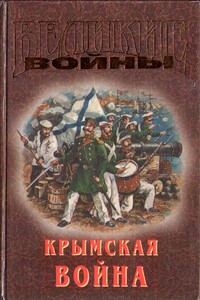
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.
