После запятой - [21]
Да, теперь я всех узнаю — они все сидели в автобусе, а теперь вышли. А красная куртка была передо мной, я все время думала, что нельзя упускать ее из виду, поэтому и не пропустила момента, когда они все вышли из автобуса. Да, точно, я все время о чем-то думала, но в то же время непрестанно повторяла себе, что сейчас эта красная куртка, то есть даже не она сама, а цвет, который выделялся среди остальных, должен приковать к себе мое внимание, что его нельзя упускать из виду. Да, теперь я все могу различать, а то все виделось какими-то непонятными пятнами — это они все вышли, из машин тоже, и остановились у подъезда. Двор я тоже помню. Значит, они все же решили собраться в родительском доме? Я почему-то думала, что у меня соберутся. Неужели я больше никогда не увижу свою квартиру? Собрались во дворе и стоят. Почему-то не поднимаются, будто чего-то ждут. Причем от меня. И этот вязкий темный сгусток над ними и подо мной. Подо мной? — значит, я могу находиться в каком-то определенном месте? Сейчас — да. Я могу где-то конкретно находиться, потому что есть этот сгусток, он все и определяет. И еще они все так ощущают, что он есть, и я нахожусь сверху, и немножко еще и поэтому он есть и я здесь нахожусь, хотя, если бы они не думали, он бы все равно немножко был и я бы тут находилась. У меня такое чувство, что я должна с ним что-то сделать. Может, мне удастся его сдвинуть? Он нам как-то мешает. Мы как будто к нему приклеены с разных сторон. Надо попробовать передвинуться, хотя сомневаюсь, что мне удастся переместить эту огромную массу. О, оттянулось! Оказывается, не так-то трудно было это сделать. Надо же, как только я увела его немного в сторону, оно распалось, рассыпалось, прямо как будто на твердые части. И кажется, пропало. Никаких следов не осталось, я не успела заметить, куда оно делось. Не могло же раствориться в воздухе. И их как расколдовали, сразу все задвигались, заговорили. А то стояли подавленные. Но над ними опять что-то начинает накапливаться — вроде это темное выходит из них самих под нажимом. А что на них нажимает? Я, что ли? Да нет, это самое темное и нажимает. Странно получается. Оно выходит под давлением, но давит оно же. То есть сначала происходит выдавливание, а потом появляется то, что ему способствовало. Трудно разобраться. Раньше я такие вещи не видела, потому что не допускала, что они возможны. А сейчас я в состоянии все допустить — раз я допустила собственную смерть, то что же еще может быть невозможного. Я, кажется, освобождаюсь от всех предрассудков. Масса на этот раз получается не такая густая и мутная, как прежде. Ну что ж, я и эту сниму. Только и успевай разгребать. Ну ладно, они поработали на меня, теперь, видимо, моя очередь. Ну вот, еще раз. Но их все равно теперь намного лучше видно. Я могу их видеть всякими разными способами — так, как раньше всегда видела, и еще другим. И еще другим. Да им нет конца, этим способам, стоит надоесть одному, тут же появляются несколько других на выбор. Какие странные переплетения они составляют и друг с другом, и с разными другими людьми, которых сейчас здесь нет. То есть физически нет, но для почти каждого из присутствующих есть хотя бы один человек, которого здесь нет, но который для него реальнее и ощутимее, чем все находящиеся вместе взятые. Можно рассматривать не только очертания человеческих отношений, но и всякие соединения мыслей, чувств, идей, какие-то бесконечные хитросплетения, совершенно организованные, упорядоченные в орнаменты, стройно выложенные под диктовку совершенно четкого закона. Невидимые шелкопряды непрестанно выделяют тонкие разноцветные нити идей, составляющих все мыслимые понятия, которые доступны людям и еще столько же пока недоступных, и эти нити, хаотически переплетаясь за время своего долгого пути, достигают людей, которые, строя отношения между собой или лепя картину мира, вытягивают эти нити, развязывая запутанные узелки, чтобы освободить полюбившуюся, и перекидывают их между собой, называя это любовью, ревностью, завистью, добротой, дружбой, ненавистью, заботой, и не замечают, что выполняют роль деталей ткацкого станка и ткут узоры, хотя и с определенной долей импровизации, но по уже в общих чертах существующему рисунку. И каждый человек непрестанно участвует в этой работе, даже если в мире людей кажется, что он совершенно ничем не занят, нет таких людей, которые бы не думали и не чувствовали, а это и есть те действия, которые приводят в действие механизм станка.
Их стало значительно меньше. Всего небольшая кучка. Наверное, остальные вошли в дом. А эти почему стоят? А, наверное, из деликатности, чтобы не подняться гурьбой, а так медленно, степенно. А может, кто мог сам подняться, те уже поднялись, а остальные ждут своей очереди в лифт, все сразу ведь не могут поместиться. Какая странная вещь — дом! Это ведь тоже идея, спустившаяся и раскачивающаяся паутиной, но вытканной уже не ими, потому что она спустилась в готовом виде, и они ее используют только как форму, чтобы отлить в ней материал, или как скелет, на который наносится основное содержание, да, которое дальше шлифуется согласно форме. Основой, на которой все замешано, склеивающей субстанцией здесь тоже служат человеческие действия, но совсем по-иному, и поэтому их результаты тоже находятся в разных плоскостях. В этой плоскости, в которой лежат дома, а также их картины, книги и даже музыка, это все им яснее видно, а та плоскость, где они прядут и ткут, им не так видна, хотя там краски и музыка не менее забавные и интригующие. Чем дальше я смотрю, тем заметнее, что таких плоскостей много, больше, чем я сейчас смогу ухватить и посчитать. Они пересекаются, не нарушая при этом целостности друг друга, но они не остаются в точно зафиксированном отношении, точки их перекрещений постоянно меняются. Иногда их только две, и тогда все плоскости вместе составляют сферу, а иногда некоторые отпластовываются, как лепестки, и все соединение становится похожим на распускающийся цветок. Я, кажется, опять слишком далеко от них отошла, потому что то, что я сейчас вижу, находится вне времени. То, что я сейчас увидела, происходило не последовательно в каком-то отрезке времени. Передо мной за одно мгновение промелькнули сразу все возможности расположения этих плоскостей, оттого у меня и возникла иллюзия раскрывающегося цветка. Нужно все-таки подойти к ним поближе. Но как? Ну, о чем ты думала? — о доме, — продолжай думать о том же, но бери ближе фокус. Но как? Внеси перспективу времени. Я забыла, как это делается. Какие там были измерения? — старый — молодой, древний — новый и так далее. Что-то с памятью моей стало… тяжело мне все дается. Да, этот дом — старый. Но не древний. И все же он еще относится к тому времени, когда дома строили с любовью. И основательно. В действие тогда вкладывали много чувства. И пользовались вещами тоже с чувством. Поэтому от многих старых вещей до сих пор исходит тепло. Мой дом не такой. Его построили совсем недавно на окраине, строили на окраине, никем не любимой, строили не для себя, а неизвестно для кого. Многие из строителей, не имея собственного приличного жилья, строили за символическое вознаграждение, строили, не получая от своих действий никакого удовольствия, думая только о том, чтоб поскорее кончить и уйти. И те, что потом поселились, тоже обживали без любви. Кто вообще об этом задумывался, тот относился к своему жилищу как к временному пристанищу, которое покинут при малейшем улучшении возможностей. И все эти нелюбови, осевшие на домах, впитались в них и прочно обосновались, поглощая и размножаясь, и отражаясь вновь на поверхности в виде отрицательных завихрений, которые не в состоянии растопить самый жаркий летний день, они готовы поглотить все солнце целиком, и им будет мало, и, когда ты попадаешь в эти районы новостроек, они начинают и из тебя выкачивать все тепло и любовь, которые в тебе еще остались, это именно похоже на действие, обратное удару в солнечное сплетение, они полностью освобождают все пространство внутри тебя, и в образовавшейся пустоте вестибулярный аппарат начинает раскачиваться, как потерявший равновесие обезумевший маятник. Если посмотреть на весь город сверху, он похож на бушующее море таящейся опасности с маленькими островками стабильности, рассыпанными посередине. Мне повезло, что мое детство прошло на одном из этих островков. Даже когда просто в теле гуляешь по городу, и то чувствуешь почти физическую разницу при пересечении границы. Она ощущается в плотности воздуха, затрудняющей дыхание или позволяющей совсем забыть о нем, давящей, обвязывающей гирями каждый шаг и обкладывающей кожу стылым сальным воздухом вперемешку с копотью, настолько застоявшимся, что через него могут проникнуть только тяжелые эмоции. Ты оказываешься весь наполнен ими, до тошноты, до отравления, пока тебя не вырвет тоской и отчаянием или, если не удастся, то сляжешь больной, выжигая их высокой температурой. Может, про такое говорят — очищаясь огнем? Пока горишь, все такое замедленное, каждое слово тянется часами, назойливо роясь у головы, пока смысл дойдет до тебя, и сам ты то с треском проваливаешься, как схваченное пламенем полено, то тебя выстреливает вверх, как искру, с тем чтобы тут же потухнуть и упасть. И так все время выныриваешь из болезни и вновь проваливаешься в нее, так что в памяти от целой жизни остается только эта борьба с захлестывающей болезнью, это желание остаться на плаву, и кажется, что ты ничем другим никогда и не занимался. И единственное, что тогда связывает с реальностью, за что ты можешь ухватиться, — это клен за окном, точнее, три ветки на фоне розовато-бежевого дома и кусочка чужого окна, перечеркнутые крестом рамы моего, — все, что видно с изголовья моей кровати, если не отворачиваться к стене и не надышивать на известку, — это бывает только в самом начале болезни, когда ни на что не хочется смотреть, да и нет сил, а потом, когда выкарабкиваешься, эта картина — единственно стабильная, потому что, когда проваливаешься, все время возникают разные картины, и только постоянство этой притягивает, как маяк, не дающий сбиться с пути к действительности. Раз я уже так долго замечаю клен, значит, дело идет к выздоровлению.
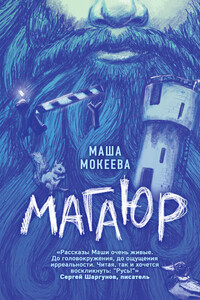
Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.
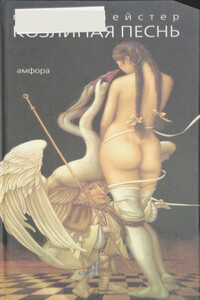
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.
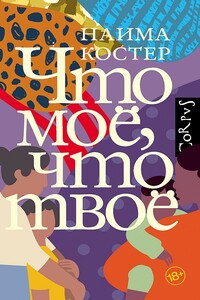
В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.