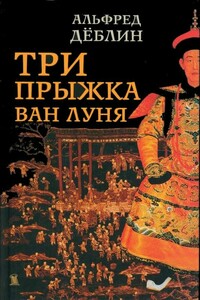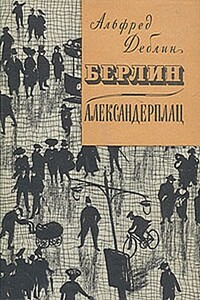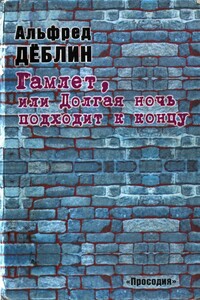Начальник станции прокричал направление поезда, загудели рельсы, паровоз поднимал свой черный железный щит все выше, выше, в такт тяжелой поступи машины дробно грохотали рельсы, поезд подходил, с великим трудом машина замедляла дыхание: разбрасывая пар, она приблизилась и, заскрежетав, остановилась. Они вошли в вагон, чемоданы сданы были в багаж, Эрих нес ручные чемоданчики — свой и матери.
И город остался позади, тот самый город, в который она ступила несколько десятков лет назад, молодая, с тремя маленькими детьми, — остался позади, как прожитая жизнь.
Поезд несся и несся, мелькали долины, леса, селенья, пашни. Они сидели в мягком вагоне одни — расплывшийся, словно навеки замолчавший Эрих и старуха, откинувшая креп на плечи. Быстро темнело. Однообразная тянулась долина с ее поблекшими лугами и полями; покрытая щетинистым жнивьем, небольшими островками голых деревьев, прорезанная озерами и реками, она тянулась так на многие километры.
Поля эти, окружающие города беспутных людей, готовы уже принять в свои недра десятки тысяч воинов, которые — сознательно, или бессознательно, или полусознательно — способствовали назреванию проклятой эпохи до тех пор, пока сами не вырыли себе могилы. Такой обильный урожай родила летом эта земля, полям надоело производить колосья, вскоре на них вырастут деревянные кресты.
Глубокой ночью они вышли из поезда, утром были у могилы отца. Белесое небо, топкие дороги, маленькое кладбище, за железной решеткой гордая мраморная плита, обвитая густыми побегами плюща. Держась обеими руками за решетку, старая женщина смотрела сквозь черный креп на могилу:
— Пусть он был даже таким, как этот, но он был хорошим мальчиком, он заслужил лучшую участь.
Она дрожала всем телом, ни единая слезинка не смилостивилась над ней.
Эрих был последним в этой семье. Юлия вскоре покинула страну вместе с детьми, отделив их судьбу от удела их родины. Он остался в столице, в своей аптеке. Он жил под крылышком давнишней приятельницы, на которой впоследствии женился. Жил он тихо.