Порт-Судан - [11]
Но не только эти признаки выдавали состояние его полного расстройства, а еще неопределенно блуждающий взгляд или, напротив, манера долго и пристально смотреть, лишь на миг отвлекаясь от изматывающего сновидения и сомневаясь в представшей перед ним реальности, а также постоянная сгорбленность, будто от удара, боль от которого не стихала и владела им полностью так, что заставляла забыть все остальное, только изредка и случайно напоминавшее ему о себе и всегда жуткое: какой-то шум, звук голоса, шорох опадающих листьев в парке, от которых он страшно вздрагивал и едва не падал навзничь.
Злоупотребление ли алкоголем было первопричиной душевного нокаута моего друга, или таково было проявление ранее случившегося несчастья — об этом пространно рассуждали Диафуарусы[9] от психиатрии во время своих утренних совещаний, на которые Уриа, конечно, не была допущена, но их отзывы доносились до нее через старшую медсестру. Мне же казалось, что она, Свобода, рассуждала куда более мудро, полагая, что каждый человек несет в себе с самого рождения потенциальные причины своего падения или взлета, они перемешаны между собой, как битые карты. Чрезмерное питье можно назвать его драматичной программой, в то время как безудержное веселье было другой ее стороной, одно катится в полный мрак, другое же устремлено к свету, как и у каждого из нас, но в его случае куда более деспотично и полно, чем у большинства. Уриа говорила о таких неуловимых и не совсем понятных вещах, употребляя слова и орографические[10] метафоры, может, навеянные горами Нумидии, откуда происходил ее род. Все люди, — говорила она, — имеют такую двойственную склонность, только у одних эта грань размыта, как у рек, где вода течет мирно, в то время как в других малейший дождик пробуждает бурные потоки, сметающие все на своем пути.
Я не мог не связать то, что поведала Уриа, с подчеркнутыми инсинуациями консьержки. Ночью слышались не только звуки любовных ласк, на которые намекала старая карга, но в последнее время их совместной жизни это были еще и отголоски сильнейших ссор, и скорее даже не ссор, а его криков и проклятий, стук падающих предметов, иногда даже звуки ударов. Я не мог допустить несправедливости по отношению к исчезнувшей, да и по отношению к А. тоже, не мог проигнорировать эти признаки, натолкнувшие меня на мысль: мой друг погрузился в такую спираль боли, которая в конце концов сделала общение с ним невыносимым. Я не должен был игнорировать свидетельства и против него — не столько для того, чтобы быть правдивым, сколько из уважения к этой правде, бывшей для него превыше всего, правде любви, в которую он вовлекал ее и которая мне мешала, даже если бы я и попытался, обвинить ее. И эта же истинная любовь принуждала меня искать причины заблуждения, в порыве которого он отдалился от нее, даже выступил против нее (иначе говоря, против себя), — в страданиях от ее молчаливого одиночества, в коем она замыкалась, и, наконец, тот факт, что она все меньше отдавалась ему, вопреки всякой видимости. А может, он даже в какой-то мере предвидел, что в конце концов случится: и раз уж боль, которую она причиняла, все росла, он поспешил опередить приближающееся, как он чувствовал, несчастье. А могло быть также, что эта ярость, это неистовство были последними безумными попытками восстановить равновесие в пошатнувшейся любви самыми неверными средствами: так некто, потеряв терпение, швыряет наземь часы, которые пытался починить, и вдребезги разбивает хрупкий механизм.
Уриа не знала ничего определенного о катастрофе, обрушившейся на жизнь А.: он совсем не откровенничал с ней, а она и не добивалась этого. Ей было лишь известно, что, после того как его оставила женщина, ему показалось, что мир больше не стоит тех усилий, которые надо прилагать, чтобы выжить. Так, — сказала она, употребляя на этот раз уже другую метафору, — жизнь для него стала такой же тяжкой и удушающей, как воздух, которым мы дышим, — для рыбы, вытащенной из воды. По ее мнению, он начал пить потому, что какой-то скрытый надлом с самого начала дал трещину и разрушил то, что стало для него дороже всего, — жизнь с этой девушкой. Вполне возможно, то, что сначала было лишь проявлением скрытого отчаяния, постоянного страха перед разлукой, которая уже ощущалась в словах и даже в любовных ласках, казалось, отрицающих ее, затем оно же и явилось поводом или последней причиной разлуки. Уриа пришла к такому убеждению во время одного из редких откровений А.: однажды утром, когда она принесла ему завтрак, он стоял прижавшись лбом к стеклу; светало, был час, когда груды опавших листьев в парке, казалось, испускают сиреневатый свет, тогда как белые фасады домиков с закрытыми ставнями и падающими на них тенями ветвей походили на зебр, все вместе создавало впечатление какой-то синеватой заброшенности, он сказал, что это напоминает ему военный ландшафт. Казалось, он плакал. Можно ли понять, когда воюют с тем, что любят, — спросил он. Поскольку Уриа ответила — нет, он сказал, что, однако, женщина, покинувшая его, потеря которой ввергла его в такое отчаянное положение, в коем он пребывал и поныне, постоянно пыталась избавиться от любви к нему.

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века.
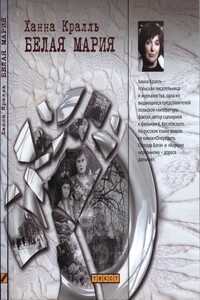
Ханна Кралль (р. 1935) — писательница и журналистка, одна из самых выдающихся представителей польской «литературы факта» и блестящий репортер. В книге «Белая Мария» мир разъят, и читателю предлагается самому сложить его из фрагментов, в которых переплетены рассказы о поляках, евреях, немцах, русских в годы Второй мировой войны, до и после нее, истории о жертвах и палачах, о переселениях, доносах, убийствах — и, с другой стороны, о бескорыстии, доброжелательности, способности рисковать своей жизнью ради спасения других.
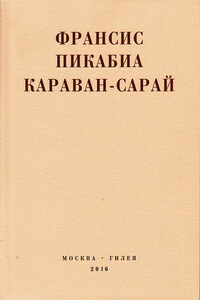
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

Судьба была не очень благосклонна к маленькому Цедрику. Он рано потерял отца, а дед от него отказался. Но однажды он получает известие, что его ждёт огромное наследство в Англии: графский титул и богатейшие имения. И тогда его жизнь круто меняется.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.