Помпеи - [82]
Вспомним, что arbustum в нашей усадьбе посажен на поле, обработанном, как это совершенно ясно из данных раскопок, для какого-то посева. Вспомним одно место из катоновского «Земледелия» (гл. 27): «Делай посев: сей кормовую смесь, вику, греческое сено, чечевицу — это на корм волам. Делай посев на пару, копай ямы для маслин, вязов, виноградных лоз и смоковниц; сажай их в то же самое время, как сеешь полбу». Место это, насколько мне известно, в специальной исторической литературе пропущено; между тем важность его для вопросов хозяйственных чрезвычайна. На наших глазах происходит превращение хлебного поля в маслинник и в arbustum (вязы и смоковницы сажают как опору для лоз). В подкрепление можно еще привести совет Катона молодому хозяину: «С первой молодости надлежит хозяину засаживать имение. Насчет построек следует думать, а чтобы сажать, об этом думать нечего: надо действовать. Когда возраст дойдет до 36 лет, тогда надо строиться, если имение у тебя засажено».
Речь явно идет о засаживании поля садовыми культурами; как мы уже говорили, Катон имел в виду как раз Кампанию. Дело происходит примерно в половине II в. до н. э.; сто лет спустя Варрон риторически воскликнет: «Разве Италия не засажена деревьями так, что кажется сплошным фруктовым садом?». Италия — пусть даже не целиком, но в какой-то немалой и важной части своей — стала, по-видимому, «сплошным фруктовым садом». Обстоятельство это не исключало, однако, и наличия хлебного поля: дело в том, что и сад, и нива помещались на одном и том же участке. Катон говорит об этом не вполне ясно, но у Колумеллы[90] имеется ряд мест, свидетельствующих о наличии таких комбинированных культур, и так как говорится об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, то, очевидно, это соединение поля и сада, поля и виноградника было чем-то давнишним и обычным. Оливковый сад специально разбивался на две части: одну засевали, другая оставалась под паром. Виноградный сад и поле на одном месте находим мы и при усадьбе под Боскореале, что совершенно не противоречит указаниям латинских писателей-агрономов.
Давно уже прошли те времена, когда, увлекаясь Бюхером, говорили об ойкосном хозяйстве в древности. Гуммерус, внимательно прочитавший Катона, Варрона и Колумеллу, заставил признать всю значимость тех советов, где говорится, как важно для имения, чтобы поблизости от него пролегали хорошие пути сообщения, сухопутные или водные, чтобы рядом находились места, где можно сбывать свои продукты и покупать то, в чем усадьба нуждается. Никто не будет утверждать сейчас, что кампанская усадьба представляет собой замкнутое хозяйство, стремящееся целиком удовлетворить самостоятельно все свои нужды. Не следует, однако, утверждать и другую крайность, как это делает в последней своей работе о помпейских виллах Каррингтон (Carrington, 1931. С. 110–130), говорящий, что хозяева крупных усадьб стремятся специализироваться на какой-либо одной отрасли хозяйства. Мы имеем в усадьбе под Боскореале, несомненно, крупное хозяйство, в котором представлены, правда в разных масштабах, все четыре главных отрасли кампанского хозяйства.
В связи с этим стоит остановиться на некоторых моментах хозяйственного анализа нашей усадьбы, сделанного Тенни Франком (Frank. С. 265 и сл.). Говоря о тесных взаимоотношениях, существовавших между нашей усадьбой и Помпеями, откуда хозяин приглашал живописцев и водопроводчиков, где он покупал строительные материалы, фабричную посуду и сельскохозяйственный инвентарь, он пишет: «Хозяин заботился о производстве однородных продуктов и не беспокоился о том, удовлетворит ли его имение всем домашним нуждам. Главным делом усадьбы было производство вина… Обеспечено было производство некоторого количества масла… О разведении скота заботились мало, и, по-видимому, нужда в сене была здесь незначительной. Поучителен обзор кладовой с инвентарем. Обилие мотыг, кирок и садовых ножей, так же как и отсутствие кос, молотков и ножниц указывает на те узкие границы, внутри которых проходит работа усадьбы. Небольшая мельница и печь свидетельствуют о количестве зерна, достаточном для домашних нужд. Но ортодоксальное представление о том, что в таком доме должен быть целый штат рабынь — прях и ткачих, ни в чем не находит себе подтверждения. Земля вблизи Везувия была слишком плодородна, чтобы отдавать ее под пастбище: в усадьбе не было, вероятно, своей шерсти, и одежда покупалась».
Археологический материал, находящийся в нашем распоряжении, полностью опровергает слова об «узких границах», в которых укладывается хозяйственная деятельность нашей усадьбы. Небольшие размеры печи и мельницы свидетельствуют только о малом населении усадьбы, но не о малом количестве зерновых: размеры тока и амбара говорят как раз против такого мнения. Утверждение об отсутствии скотоводства в нашей усадьбе также неправильно: в ее инвентаре, исчерпывающий список которого сделан археологом Паскви, указывается цельная большая коса, употреблявшаяся, для косьбы соломы и травы>{28}, и обломки кос, а кроме того, ножницы с треугольными лезвиями, такие, которые и поныне употребляются для стрижки овец; указываются также веретена — цельное и в кусках. Штата прях не было; население усадьбы, как мы увидим дальше, вообще было немногочисленно, но шерсть здесь пряли. Чтобы держать овец, не надо было отводить для них специального пастбища: они паслись на парах, их кормили листвой и сушеными стеблями бобовых растений, служивших одновременно зеленым удобрением. Катон недаром держал у себя при оливковом саде стадо овец в 100 голов и заботился о заготовлении листвы; овцы не требовали почти никаких дополнительных расходов, и в то же время значительно повышали доходность имения и шерстью, и молочными продуктами. Не держать их было бы просто нерационально.
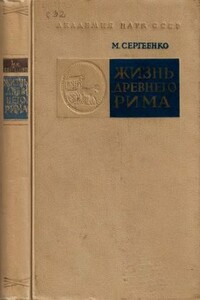
Книга историка античности М. Е. Сергеенко создана на основе лекций, прочитанных автором в 1958–1961 гг., впервые вышла в свет в 1964 г. под эгидой Академии наук СССР и сразу же стала одним из основных пособий для студентов-историков, специализирующихся на истории Рима.Работа, в основном, посвящена повседневной жизни Рима и его жителей. М. Е. Сергеенко подробно рассматривает археологические находки, свидетельства античных авторов и другие памятники для воссоздания обычаев и мировоззрения древнеримского народа.Сугубо научный по рассматриваемому материалу, текст книги, тем не менее, написан доходчиво, без перегруженности специальной терминологией, так как автор стремился ознакомить нашего читателя с бытом, с обыденной жизнью древнего Рима — ведь без такового нельзя как следует понять ни римскую литературу, ни историю Рима вообще.
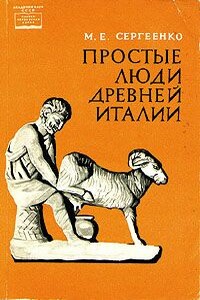
В распоряжении читателя имеется ряд книг, которые знакомят его с фактической историей древнего Рима, с его экономической и социальной жизнью, с крупными деятелями тех времен. Простые люди мелькают в этих книгах призрачными тенями. А между тем они, эти незаметные атланты, держали на себе все хозяйство страны и без них Римское государство не продержалось бы и одного дня. Настоящая книга и ставит себе задачей познакомить читателя с некоторыми категориями этих простых людей, выделив их из безликой массы рабов, солдат и ремесленников.М.Е.
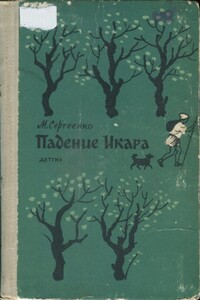
Второй век до новой эры. Власть в Риме захватил беспощадный диктатор Сулла. Он жестоко преследует своих противников, все неугодные занесены в особые списки — проскрипции, и каждый из них может в любой момент поплатиться жизнью. С драматическими событиями той поры тесно переплелась судьба главного героя повести — маленького Никия. О его приключениях, жизни, полной лишений, вы прочтете в этой книге. Написала ее Мария Ефимовна Сергеенко, доктор исторических наук, автор многих научных трудов по истории древного мира.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.