Польский театр Катастрофы - [27]
«Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил — повсюду была долина Иосафата. Раздетым жертвам отводилась роль осужденных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, — все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. […] Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. […] Поистине, исполнять роль Бога Отца в этой пьесе — с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки — было непросто […]. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скупыми фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочилась кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной»[96].
Можно увидеть сходство «театра» Катастрофы, столь суггестивно обрисованного Лемом, с образом христианского барочного театра «падшей истории», который дал Вальтер Беньямин, образом, который возникает на руинах трагического театра и средневековых пассийных пьес: «История в мире, лишенном знаков трансценденции, история, лишенная каких бы то ни было предохранительных механизмов, — это катастрофическая стихия, стихия […] не столько вечной жизни, сколько вечного разложения»[97]. Адам Липшиц, реконструируя беньяминовское ви́дение театра, созданное в двадцатых годах ХХ века, представляет его — сознательно или нет — в силуэтах Холокоста; в книге Беньямина о немецкой драме траура он высматривает черты «будущей» катастрофы. Барочный театр «падшей истории» — полон крови и безвкусен, он осязаемо материален и временен, а присущие истории механизмы уничтожения превращают людей в марионетки. «В этом мире смерть не имеет ничего возвышенного, жизнь — это только генерирование останков, которое продолжается беспрерывно, начинаясь со стрижки волос и ногтей, и не факт, что кончается в момент смерти, поскольку и тогда волосы и ногти не перестают расти»[98]. Как противостоять такого рода протяженности «традиции», в какую складываются в этом случае история театра и история театральных метафор (не позволяя возвышенно исключить Катастрофу из регистра культуры)?
Знал ли Лем «Бригаду смерти» Леона Величкера — изданное в Лодзи сразу после войны свидетельство молодого львовского еврея, работавшего в зондеркоманде Яновского концлагеря? Сама собой напрашивается мысль, что он должен был эту книгу читать. Более того, его собственное произведение представляется в большой степени — именно комментарием к «Бригаде смерти». У Величкера постоянно возвращается одна и та же картина: люди, раздевающиеся у предназначенной им общей могилы, мы находим у него бесконечные, монотонные описания одних и тех же сцен: трупы извлекают из могил, складывают в груды, сжигают; повторяются описания запаха гниющих и горящих тел, хождения в лужах крови, инфернального пейзажа с вечно полыхающим огнем и густым черным дымом. Сожжение человеческих тел в укрытых долинах и ущельях в предместьях Львова длилось неделями. «Сущий ад», — комментирует один из сотоварищей Величкера. В этом изолированном пространстве — только жертвы и их преследователи-садисты. Нет никаких зрителей, ротозеев, посторонних наблюдателей

Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны Высоцкой посвящена становлению поэта и артиста, кумира нескольких поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству, удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200 уникальных фотографий и документов, почти все они публикуются впервые. В ней множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие понять истоки формирования его личности, характера и творчества. Книга будет интересна как давним поклонникам Высоцкого, так и всем интересующимся творчеством поэта, барда и актера.

Книга В. М. Красовской посвящена великой русской танцовщице Анне Павловой. Эта книга — не биографический очерк, а своего рода эскизы к творческому портрету балерины, прославившей русское искусство во всем мире. Она написана как литературный сценарий, где средствами монтажа отдельных выразительных «кадров» воссоздается облик Павловой, ее внутренний мир, ее путь в искусстве, а также и та художественная среда, в которой формировалась индивидуальность танцовщицы.

В книге описана форма импровизации, которая основана на историях об обычных и не совсем обычных событиях жизни, рассказанных во время перформанса снах, воспоминаниях, фантазиях, трагедиях, фарсах - мимолетных снимках жизни реальных людей. Эта книга написана для тех, кто участвует в работе Плейбек-театра, а также для тех, кто хотел бы больше узнать о нем, о его истории, методах и возможностях.
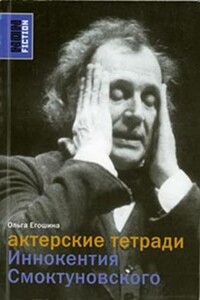
Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основанная на богатом документальном и критическом материале, книга представляет читателю широкую панораму развития русского балета второй половины XIX века. Автор подробно рассказывает о театральном процессе того времени: как происходило обновление репертуара, кто были ведущими танцовщиками, музыкантами и художниками. В центре повествования — история легендарного Мариуса Петипа. Француз по происхождению, он приехал в молодом возрасте в Россию с целью поступить на службу танцовщиком в дирекцию императорских театров и стал выдающимся хореографом, ключевой фигурой своей культурной эпохи, чье наследие до сих пор занимает важное место в репертуаре многих театров мира. Наталия Дмитриевна Мельник (литературный псевдоним — Наталия Чернышова-Мельник) — журналист, редактор и литературный переводчик, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
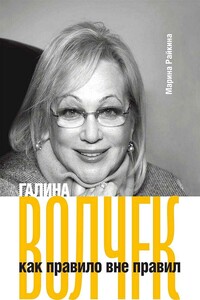
Галина Волчек — это не просто женщина, актриса и главный человек одного из самых известных театров страны — «Современника». Она живет со своей очень нестандартной системой координат. Волчек ненавидит банальности и презирает предателей. Она не признает полутонов в человеческих отношениях и из нюансов творит свой театр. Гармония несочетаемого — самая большая загадка жизни и творчества первой леди российского театра Галины Волчек. В оформлении 1-й стороны обложки использована фотография О. Хаимова.
