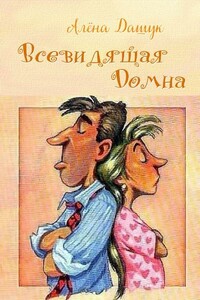Полевая практика с чудовищем - [5]
– Погоди, Мурка! Видишь, дружку твоему помощь оказываю. Так-то вот…
Я сидел за столом и пил крепкий травяной чай. Василий Тимофеевич сосредоточенно давил ложкой ягоды в деревянной миске.
– Как же так? – Я всё ещё не мог придти в себя. – Почему вы ничего не объяснили тогда?
– Знал бы, что Пелагея на такое способная, разве ж сюда вернулся бы. Красивая она девкой-то была. Меня любила. Свадьбу играть хотели. Да вот… Тогда царских-то каторжан выпустили, я с таким в тайге и схлестнулся. Он мне про большевиков рассказывал. Я и ушёл с ним за советску власть воевать. Вернулся через много времени, да с Марьюшкой моей. Пелагея и затаила обиду.
Кто ж знал, что так-то вот выйдет. Я же тогда к Пелагее извиниться пришёл. Не хотела она со мной разговаривать, вот я к окошку и подлез. Думал, поймёт, простит. Решил, была не была, мне бы только рассказать ей, как Марьюшка в госпитале меня выхаживала. С ложки поила. Экую страсть залечила! – Дед потрогал пальцем уродливый рубец, тянущийся через всё лицо. – Доктора хорошо, но, если б не Марьюшка, не выжил бы. Глянул на неё и… Люба она мне была. Так люба, что и словами не сказать. Шалишь, думаю! Не буду помирать, с ней хочу быть. Так вот и остался землицу топтать. Сами доктора руками разводили. Не живут после такого-то. Шашкой, видишь, зацепило. Она меня на свет божий вытянула. Потом и сюда ехать не побоялась. В самую тайгу. – Старик опустил лохматую голову. – Вот, значит, как вышло – она меня с того света, а я её… не уберёг.
– Обида обидой, но… столько лет!
Дед Василий тяжело отмахнулся.
– Сперва, конечно, сочиняла Пелагея по злобе. Чего и не было плела. А потом люди сами домысливать стали. Страх, он по цепочке идёт. Ксютке, у которой ребятёнок помер, тогда что угодно втемяшить можно было. Голову баба от горя своего потеряла. А, может, и верно, кошка ихняя детёнка жалела. Кошки – не люди. Они жалеть способные.
– А мать Пелагеи? Она же тоже про кота говорила.
– Может, и шмыгнула кошка какая, когда та косу точила. Испугалась да и напоролась. А, может, сама Пелагея додумала. Очень она сердитая на меня была. Молва людская – сила буйная: один сбрехнёт, второй подхватит, а там и всё село заголосило. Так, видать, и вышло. Как горе какое, сразу кота вспомянут. Совсем разума лишились. Только не знал я, что до такой злобы дошли. Поначалу-то видел – чуть появлюсь, сразу шу-шу, да шу-шу. Чураются. Оно понятно, Пелагея всем растрезвонила, что неживой я. А мне-то что. Мы с Марьюшкой сами по себе. Не хотят знаться, не надо. Нам-то всё равно хорошо. Эх, кабы ведали тогда…
– Как же вы в том пожаре не погибли?
Старик сморщился. Долго сопел.
– На охоту подался. Домой вернулся, а там… Косточки собрать и те не дали. Как бирюка по тайге гнали. Насилу ушёл. Вешаться потом хотел. Да та же злоба не дала. Как так, думаю, душегубы по белому свету ходить будут, а мы с Марьюшкой… Шалишь! Я вам ещё кровь-то попорчу. Как слепой был. Всё мыслил, как им за Марьюшку отомстить. Про котеек-то до меня слухи доходили, пока в деревне жили. Посмеёмся с Марьшкой да и вся недолга. А тут решил я к делу это приспособить. Пусть, думаю, в страхе живут, да Василия с Марьюшкой помнят. Пусть у них головы побелеют, как у меня на том пепелище!
Грешен я. Овины жёг, курей резал. Особо ретивому, который по тайге меня в тот раз гнал, каюсь, коровёнку сгубил. Обычно-то, как крик поднимается, котика какого и подкидывал. Спрячусь и смотрю, как волосья на себе рвут. А метнётся котейка с глаз долой, сам и явлюсь издали. Вот что, дурень, делал.
Потом перестал. Только людям-то уже всё одно – к любому горю котейку вспомнят. Так себя настропалили, что и вовсе ума лишились. Котеек истребили. Видал я, как за неповинными тварями бегали, да под топор.
Окстился я. Что наделал! Давай котеек собирать, да к себе. А они, глупые… Котята народились, подросли, а мамки их всё к старому дому идут. Котятки подросшие, понятно, за ними. Одичалые, то курицу придавят, то цыплёнка утащат. Сытно им там, видишь. Зверю, ему что, где сытно, там и ходит. Как удержишь? Охотники! Уж я их тут и кормлю, и слова разные говорю, а всё одно – стать их охотничья гонит туда, где птички глупые да вкусные. Сколько лет уж так. От родителей к детям. У людей тоже, видишь, от бабок к мамкам, от мамок к ребятне. Вся деревня от мала до велика на том стоит, котейку увидал – жди беды. Да и не котейка это вовсе, а вот я самый и есть – оборотень.
Старик невесело усмехнулся.
– Умирает Пелагея, – тихо сказал я. – Рассказывала об оборотне, а тут кот на окне…
Глазах старика сверкнули.
– Помирает, значит? От того страха, который сама нагнала, и сгинет.
– Бывает, – кивнул я. – Самовнушение называется. Если много раз повторять ложь, в неё и сам поверишь.
– Может, и так, – согласился Василий Тимофеевич. – Особо, когда твою брехню все вокруг повторяют, да ещё за свою правду выдают.
– Массовое сознание, – сумничал я и покраснел. Моё бахвальство прозвучало неуместно, как анекдот на поминках. Следовало сказать что-то другое. И я понял что. – Василий Тимофеевич, а ведь бабка Пелагея потом мужиков отговаривала идти убивать вас.

В рассказе использованы реальные факты из жизни американского учёного сербского происхождения Николы Теслы (1856-1943). Имена и названия сохранены. Опубликовано в сборнике "Герои на все времена" (изд. "Эксмо")

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Апокалипсические фантазии, основанные на произведениях В. Головачёва из серии "Мир хроник Реликта". Повесть опубликована в сборнике "Реликт 0,999" (изд. "Эксмо")

Автор пишет о себе и книге: «Я была каждым из тех, о ком писала. Я смотрела их глазами, трогала кончиками их пальцев тончайшие паутинки их бытия, я ненавидела их врагов, болела их болью, радовалась их радостью. Я любила каждого из них, как самоё себя. Я проживаю множество жизней, принимаю десятки смертей. И я не раскаиваюсь».

Рассказ принимает участие в конкурсе "Тёмные аллеи". Условия: http://temnie-alleyi.livejournal.com/64993.html?view=365793.

Исполнился завет Мао Цзэдуна — «Духовная энергия должна быть преобразована в энергию материальную»: гениальный французский ученый изобрел способ извлекать энергию из человеческих душ. И пока за это «передовое топливо» борются американцы, китайцы и русские, албанский диктатор создает оружие массового обездушивания…Ромен Гари использует этот фантастический сюжет, чтобы вдоволь посмеяться над современной цивилизацией, ее политиками, учеными и военными, — и сделать попытку реабилитировать вышедшее из моды слово «душа».

Состряпанная за полчаса до дедлайна поделка на Коллекцию Фантазий 12, неожиданно оказавшавшаяся аж в двадцатке финала. Чуть подретуширована.

В системе Гамма Лебедя открыли планету Понтей. В полёт к ней, который продлится около двухсот лет, отправился Одиссей — точнее, не сам Одиссей, а его точная цифровая копия, записанная в биоприставку к компьютеру. Настоящий же Одиссей решил дождаться своего двойника из полёта к Понтею и лёг в анабиоз.© Ank.

Крупнейшая транспланетарная корпорация хочет перевести на интересы нескольких лиц, входящих в ее руководство, энергию всего космоса. Мало того, дельцы затеяли «перемешивание» физических реальностей. В рамках такой «вселенизации» окончательно погибнут самобытные культуры всех человечеств. Галактические боги недовольны! Один из богов подговаривает жителя бывшей Земли Лагина разоблачить богопротивные планы корпорации. Лагин соглашается...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.