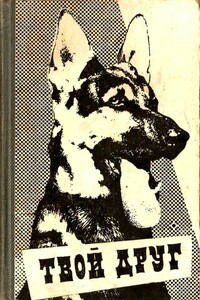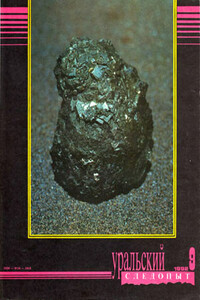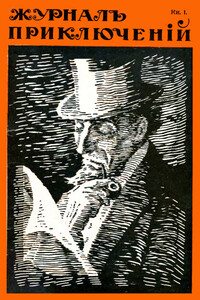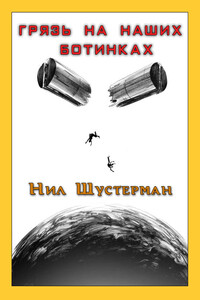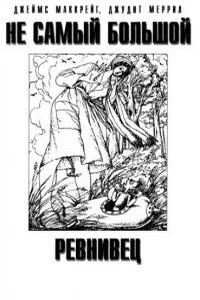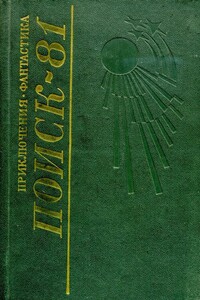Управитель де Геннин, крупный, дородный, сидел в мягком кресле, вытянув ноги в черных шерстяных чулках до колен, облокотясь на стол, заваленный бумагами, чертежами, каменьем грязным всевозможным — здешних руд образцами.
Руку в кружевной манжете протянул:
— Входи, Никитич, входи. Каково здравствуешь? — Поворошил на столе бумаги, одну подал Татищеву.
— Еще челобитная получена. Супротивника твоего Демидова обличают в ней.
Генерал де Геннин, почти четверть века в службе российской пребывая, изъяснялся по-русски свободно, иной раз и бранился под горячую руку не хуже здешних приказчиков. Челобитная же, которую читал Татищев, хоть и по-русски писана, но буквы наполовину иноземные, слова тоже. Бергмейстер Блиэр жаловался новому управителю, что Акинфий Демидов чинит противности казне, а служителям казенных заводов от него в письмах и словесно поношения срамные и обиды. Татищев дочитал, со вздохом положил бумагу на стол.
— Каков! — Геннин сердито ткнул в бумагу пальцем. — Наглости у тульского мужлана в преизбытке! А и то сказать, пошто б ему наглым не быть? Понеже его заводы, а не казенные, государю отменное железо дают в изобилии. В противоборстве нашем он. победитель. А победителей не судят, хотя и зело надобно бы...
— Имею надежду, Виллим Иваныч, что под вашим попечительством пойдет с казенных заводов железо изряднее демидовского, — поклонился Татищев.
— Послужу государю, сколь сил моих станет. Мало у меня людей честных, в горном деле понятием одаренных. Всюду лихоимцы, яко тараканы ползают. Вот и сей день в канцелярию две челобитные поданы...
Толстые, в перстнях пальцы мяли, комкали синюю скатерть, и оттого челобитная бергмейстера Блиэра шевелилась, топорщилась, ползла к Геннину. Татищев сказал вполголоса:
— Две челобитные? А и третья, Виллим Иваныч, у ворот дожидается. Малый там...
— Все жалобы в канцелярии подавать надлежит.
— Мужик канцелярии не верит. Тот малый и мне отдать не захотел, не доверил. Явите такую милость, прикажите звать сего упрямца.
Управитель насупился. Тяжело сидел в кресле, расставя ноги, под распахнутым камзолом вздымалась дыханьем натужным белая, голландского полотна, рубаха на широкой груди. Человек он видом могутный, здоровьем же не весьма крепок, и дорога измотала его.
— Мужик с прошением?.. Коль ты за него ходатаем, так и быть, вели ему войти... Каков упрямец, канцеляристам моим веры не имеет! А и правильно делает...
Татищев встал, поклонился низко — невзирая на благосклонность Геннина, он вольностей себе не дозволял, — дверь приоткрыл, велел позвать мужика.
Проситель вошел. Перво-наперво на образа перекрестился. Потом господам отвесил поклон, коснувшись половика пальцем. И встал у двери. Молод, лицом невзрачен, синий зипун висит на нем, как на колу. Супротив дородного генерала — ровно соломинка перед снопом. Глядит без робости, с любопытством.
— Говори, на кого извет принес, — дозволил Геннин.
— Не извет — святая правда в бумаге прописана.
— Отчего в канцелярию отдать не хотел?
— Таков наказ имел от людей кунгурских: в собственные чтоб руки, а боле никому.
Татищев челобитную принял, Геннину подал. Вскинув голову, далеко бумагу держа, управитель стал читать. За дверью, в канцелярии, невнятно звучал голос надсмотрщика. Тихо шипела лампада пред образами.
— Гм! Складно и красовито писано. Кто сочинял сие?
— Я сочинял. И писал я же. Правду писал.
— Где ты, мужик, столь преизрядно грамоте учен?
— В верхотурском монастыре Никольском.
— Какова ж тебе корысть за чужой уезд радеть?
— Пошто за чужой? Кунгурцы и верхотурцы, одному мы богу молимся, беды терпим одинаковы...
Управитель тяжело поворотился в кресле, на парня набычился.
— Как звать?
— Ивашка Гореванов.
— Гореванов ты и есть, поелику много битья примешь — язык остер не по чину... Ямщик ты? Ямщику много ли слов надобно: коня бранить, коль дорога плоха, да богу молиться, коль жив доехал. Но к писарскому делу у тебя талант несомненный. Глянь, Никитич, сколь пригоже начертано, буквицы ятные, слог хорош. Головачев! — гаркнул управитель. Надсмотрщик явился тотчас, во фрунт вытянулся. — Сего грамотея, — махнул бумагой на Ивашку, — возьми в канцелярию копиистом. Писцы нам зело надобны.
Головачев парня по затылку двинул:
— Благодари, дурак, кланяйся!
— Батюшка! — парень завопил. — Пошто меня в писцы? Сделай милость, приставь лучше к лошадям, хошь конюхом! Не свычен я по канцеляриям сидеть...
Геннин ногою топнул.
— Головачев! Сведи на конюшню, коли сам того просит. Да всыпь кнутом по заду, чтоб не мудрствовал. А после того веди в канцелярию, пущай стоя пишет, ежели сидеть не свычен.
Надсмотрщик сгреб парня за шиворот, словно кот воробья, едва не на весу из кабинета выпер. Управитель глянул на Татищева не то гневно, не то с укором.
— Видал? Говорит, в бумаге сей правда писана!.. Смерд полудохлый мужицкую правду принес! А что мне с нею делать? Кому на Руси правда нужна?! — потряс над головою бумагой, хотел на стол кинуть, да передумал, опять в строки воззрился, сопя и хмурясь.
Татищев с делом пришел, но, видя Виллима Иваныча нерасположение, почел за благо удалиться, встал.
— Куда? Ты надобен мне. На вот, чти от сего места, — протянул челобитную. Сам вскочил, заходил от стола к печи, бранясь по-русски и по-немецки.