Похороны Степаниды Ивановны [журнал «Новый мир», 1987, № 9] - [4]
В одиннадцать часов вечера, вконец измочаленный, я все же приземлился в Москве. Мои сестры и брат Николай уже ждали меня в автобусе. Прямо с аэродрома, в ночь, они поехали в Олепино (пять-шесть часов для такого автобуса), а я отпросился у них домой спать, полагая выехать утром на своей машине и к двенадцати часам быть на месте.
Я мог бы появиться и позже, потому что час похорон зависел, в сущности, от меня. Но мне еще предстояло ехать в другое село, где чудом сохранилась действующая церковь, и привезти оттуда священника отца Сергия, худенького старичка с очень жиденькой, седой, желтоватой на вид косичкой…
Во все времена и у всех народов почиталась последняя воля умирающего. Правда, если пришли оккупанты, захватчики, варвары, установили террор, начинают творить разбой, то тогда, конечно, вряд ли можно надеяться на исполнение последней воли. Но у всех цивилизованных народов и во все времена последняя воля умирающего почиталась священной.
Да если бы и не было высказано Степанидой Ивановной ее последнее земное желание, то и без этого мы, ее дети, знали, что лежать она должна только в Олепине и что хоронить ее, глубоко религиозную, страстно верующую, нужно по церковному православному обряду, то есть, с ее точки зрения, по-человечески.
Разные существуют у разных людей представления о достойных человека похоронах. Древние славяне клали покойника в ладью и сжигали вместе с ладьей. Древние египтяне мумифицировали труп. Индусы (во всяком случае некоторые секты) предпочитали, чтобы тело было оставлено на расклевание птицам. Скажи такому, что его закопают в землю, он преждевременно умрет от тоски. Он считает, что птицы предпочтительнее червей, и лишить его желаемого им погребения было бы самой откровенной жестокостью, точно так же, как мне или вам сказали бы, что после смерти нас выбросят на помойку, где обычно копошатся вороны и бродячие кошки.
У нас в московской писательской организации свой обычай. Если умирает писатель, то в ресторане в Дубовом зале быстро убирают столики, за которыми мы еще вчера вечером гоняли чаи и другие напитки покрепче, сдвигают несколько столиков, устанавливают на них гроб. Вот уж поистине: «Где стол был яств, там гроб стоит…» После речей — от имени секретариата (если покойник важный), от имени парткома или просто дружеских — гроб выносят, пол подметают, столики возвращают на свои места, и вот уж свежий, вошедший в ресторан человек заказывает двести граммов водки и не подозревает, что всего час назад здесь происходил торжественный обряд прощания с человеком. Снуют официантки, звенит стекло, слышится несвязное бормотание.
Если покойник очень уж важный, то его выставят на сцене в Большом зале, где еще вчера был творческий вечер Аркадия Райкина, а завтра будут демонстрировать фильм с участием Брижит Бардо. Ораторы тут тоже будут рангом повыше, может, и сам Федин. Федина же, когда он умрет, скорее всего положат в Колонном зале (как, например, Фадеева), где — опять же вчера — выступал хор Пятницкого. И ораторы пойдут еще солиднее — от ЦК, от правительства, от Московского городского комитета партии.
Итак, вот обряд. Скажите кому-нибудь из ныне здравствующих членов СП: мы, мол, вас в церкви отпоем, когда умрете, — они возмутятся, запротестуют. И правильно. Это по отношению к ним была бы самая настоящая жестокость.
По всей России закрыты десятки тысяч церквей, но миллионы пожилых людей, которые хотели бы быть похоронены с их точки зрения по-человечески, остались и доживают свой век. И фактически миллионы ни в чем не повинных людей лишены элементарной возможности погребального обряда. Еще одна вопиющая жестокость, еще один «паек» в ряду других, бесчисленных и унылых.
Но у меня есть машина, и я полон решимости исполнить последнюю волю матери. Я поеду в село Снегирево и привезу оттуда отца Сергия, чтобы он свершил над останками Степаниды Ивановны православный погребальный обряд…
Войдя в свой дом, я увидел, что в нем полно народа, что гроб распаян и Степанида Ивановна лежит в переднем углу. Ну вот, летела на самолете (впервые), тряслась всю ночь на автобусе, а теперь, можно сказать, добралась до места. Четыреста последних метров проплывет на белых полотенцах, на мужицких плечах мимо нашего сада, мимо залога, мимо картофельника, где столько поползано на коленях, столько поковыряно, пошарено по холодной осенней земле озябшими, негнущимися пальцами, выбирая картошку, мимо ржи, еще не пошедшей в колос, краем горы, круто сбегающей к реке, до знакомых сосенок, про которые столько уж олепинских поколений говорят: «Все там будем».
Мы с Николаем тоже могли бы подставить плечи, но, кажется, сыновьям не полагается нести материнский гроб.
Когда появляется около гроба новый человек из близкой родни, с новой силой поднимаются всхлипывания и причитания. Кроме того, и удовлетворенный ропот прошелестел по пришедшим на похороны, когда я прямо из-за руля, прямо из четырехчасового полосатого мелькания возник на пороге под низкой притолокой. Приехал. Значит, теперь уж скоро. Долго ли на машине до Снегирева? Час в оба конца.
Не относится к делу, что, поехав ближней дорогой через лес (семь километров вместо двадцати), я не учел одного потного, как у нас говорят, местечка, замаскированного майской травой, и машина начала буксовать и увязла. Понадобилось полтора часа, чтобы я смог выбраться. Сначала пытался выехать сам, рубя ветви и бросая их под колеса, а потом, отчаявшись, сходил в ближайшую деревню за грузовиком, который меня и вытянул из трясины. Все это никак не относилось бы к делу, но все же возникла нехватка времени, нервозное состояние, что и повлияло в свою очередь на характер моего разговора с отцом Сергием, сделало меня более решительным и напористым.

1972-1978ruruLT NemoFBTools, XML Spy, MS Wordhttp://lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trava.txtВладимир КоробицинSoloukhin_Trava1.0Владимир Алексеевич Солоухин; ТраваВладимир Алексеевич Солоухин; Созерцание чуда. Издательство: «Современник», Москва, 1986Москва1986Впервые опубликовано: Солоухин В.А. «Трава». Наука и жизнь. № 9-12. 1972 годВладимир Алексеевич Солоухин (1924-1997)ТраваНьютон объяснил, – по крайней мере так думают, – почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более трудным вопросом а как оно туда поднялось?Джон РескинНаиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет.К.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жанр этой книги известного поэта и прозаика Владимира Солоухина трудно определить. И действительно, как определить жанр произведения, если оно представляет собой разные мысли разных лет, мысли, возникавшие, скорее всего, не за писательским столом, а как бы по ходу жизни. Эти «беглые мысли» записывались автором на клочках бумаги, а затем переносились в особую тетрадку.Мгновенные впечатления, собранные воедино, как бы приглашают читателя к размышлению, к беседе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
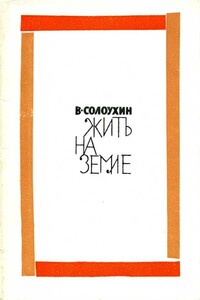
«Своеобразный и глубокий художник, В. Солоухин пристально и напряженно всматривается в мир, замечая и отмечая в памяти все неповторимые подробности этого великого и многоликого мира. Высшее для себя счастье художник видит в том, чтобы сражаться под знаменем коммунизма, под знаменем света и добра. Он видит счастье в вечном предвкушении завтрашнего, в упоении новизной.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.

Автобиографическое издание «С гитарой по жизни» повествует об одном из тех, кого сейчас называют «детьми войны». Им пришлось жить как раз в то время, о котором кто-то сказал: «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Людям этого поколения судьба послала и отечественную войну, и «окончательно построенный социализм», а затем его крушение вместе со страной, которая вела к «светлому будущему». Несмотря на все испытания, автор сохранил любовь к музыке и свое страстное увлечение классической гитарой.

Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Сборник воспоминаний детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев, переживших голод 1921–1922 годов.

В книге академика В. А. Казначеева, проработавшего четверть века бок о бок с М. С. Горбачёвым, анализируются причины и последствия разложения ряда руководителей нашей страны.