Похороны доктора - [2]
И если бы некий наблюдательный интеллектуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!., никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит?
Именно — ОЧЕНЬ. Никаких "ничего" или "пройдет" она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранники боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство — как тебе, каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, со-чувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора. Имя врача. И никакой фальши, ничего наигранного, никаких мхатовских "батенек" и "голубчиков" (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его "давали" по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести… ах, Качалов-Мачалов! Тарасова — идеал красоты… при слове "Анна" поправляется дрожащей рукой пышная прическа…)…
С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали— втыкался в три приема: туда-сюда, выше-ниже и, наконец, точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие… (Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности: мол, опять, — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия…) и наклон головы были снова девичьими… потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость, — замечать за ней возраст было нельзя.)
Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)… вот при этом позвякивании чашек о кран.
Она сбрасывала 50 или 100 рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия… а дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках — становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман… и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюар и этюд Скрябина… будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: "Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!.."
Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили…
Дима же, мой родной-разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета — барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.
Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (головы)), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), — и над всей этой империей властвует рука с золотою ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод…).
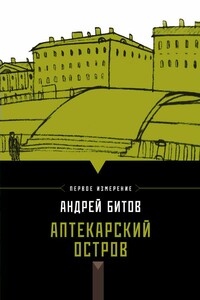
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
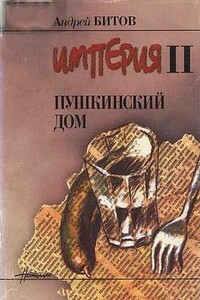
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
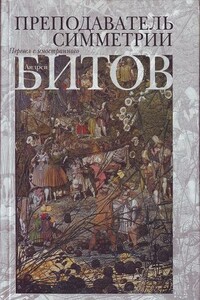
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.
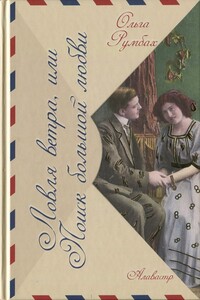
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
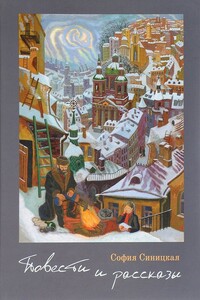
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
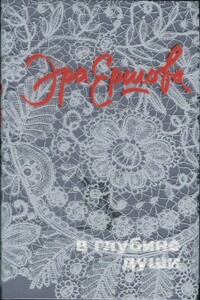
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.