Погружение во тьму - [160]
Это отступление следует заключить справкой, освещающей хронологию наших встреч с Софьей Всеволодовной со времени ареста по 1946 год, то есть за восемнадцать лет.
В конце лета 1928 года она вместе с Линой Осоргиной, женой Георгия, приезжала на Соловки для недельного свидания. Пока я был в Ясной Поляне, не раз меня навещала, иногда живала подолгу, но не порывала с Москвой и друзьями. Гащивала она и у своего отца, на Тульской госконюшне, в бывшем имении Бутовича на реке Упе, в полутора десятках километров от Ясной Поляны.
Затем мы встретились в Архангельске, в 1935 году, после Мариинских лагерей. Дочь жила с бабушкой в Москве, с нами был новорожденный сын. После моего ареста Софье Всеволодовне удалось вернуться в Москву.
И потом была еще короткая двухдневная встреча при проезде моем в Кировабад. Повзрослевшая дочь глядела с ужасом на «живые мощи», обряженные в жалкие обноски, плакала и дичилась. Софья Всеволодовна, еще в лагерях начавшая работать в больнице, а потом закончившая фельдшерские курсы, была в то время линейным работником в городе Малоярославце, получила там, при станции, квартиру и оттуда приезжала для свидания. Естественно, что медика не мог расстроить вид отчаянного дистрофика — она их перевидала бессчетно в сибирском лагере!
Вот летом 1946 года мне предстояло как раз возвращаться к ней в Малоярославец. Дочь работала радисткой в Арктике, на Диксоне; там вышла замуж за начальника острова, инженера связи Валентина Игнатченко. Странно мне было, что дочь стала женой коммуниста.
В Малоярославце, где было больше высланного народа, чем местных жителей, мое появление не могло привлечь к себе внимания, но с первых же шагов я ощутил — тут каждый следит за каждым. И при случае, натурально, доносит. Здесь опыт меня не обманывал, как среди азербайджанцев, и я с некоторым страхом — как же далеко зашло! — убеждался, что соседка, зубной врач, подслушивает у нашей двери, что зашедший сослуживец жены бегает глазами по лежащим на столе бумагам, что за очередной пулькой все играют молча, а заговорившему красноречиво указывают глазами на дверь и окно. Не потому, что предполагалась возможность рискованных высказываний, а из опасения, как бы кто не завел речь о дороговизне картофеля, пустых прилавках… О жизни всемером в одной комнатенке.
На привычные сплетни маленьких городов накладывалось улавливание неосторожных слов, наушничание; питаемые завистью к лишней комнате соседа доносы. Жить тут было душновато.
Впрочем, я сколько мог бывал в Москве, куда влекли завязывавшиеся первые робкие связи с редакторами, достаточно смелыми, чтобы снабжать работой, не вдаваясь в обстоятельства моей биографии. Не помню, кому я был обязан первыми контактами в ИЛе — издательстве иностранной литературы, где мне стали поручать переводы. На первых порах помогли знакомства моей сестры Натальи Голицыной, сведшей меня с внуком настоящего Толстого Сергеем Сергеевичем, публиковавшим свои учебники английского языка в этом издательстве, и с вдовой советского Толстого Людмилой Ильинишной, принадлежащей столичному бомонду и соизволившей отнестись ко мне благосклонно. У нее, само собой, были на кончике телефонного провода самые влиятельные товарищи. Она входила в избранный чекистско-литературный салон снохи Горького и могла позвонить кому-либо из непосредственного окружения Берии, кремлевскому церемониймейстеру слинявшему графу Игнатьеву, расшаркивающимся перед ней заправилам Союза писателей.
Эта львица поставила меня в несколько двусмысленные рамки: встреч со мной отнюдь не избегала и принимала с очаровывающей приветливостью, однако не вводя в кружок своих друзей и знакомцев. Мне назначались — с лестной для меня готовностью — часы и дни, в какие я оказывался единственным гостем. Такт и воспитанность Людмилы Ильинишны искусно вуалировали этот маневр, обусловленный необходимостью не афишировать визиты столь чуждого элите гостя. Из длинных «тэт-а-тэтов» за музейно сервированным столом (покойный сталинский лауреат, как известно, не зевал по части приобретения антиквариата!) был изящнейшим образом раз и навсегда изгнан малейший намек на вольные суждения: нас интересовали только вопросы искусства и апробированные оценки.
Я понимал, по каким острым граням ходишь, видаясь с этой женщиной, как она может быть опасна и даже страшна, и все же восхищался ее светскостью и чисто женским очарованием, задушевностью тона, в искренности которого было почти невозможно усомниться, ее умением вести разговор так, чтобы не дать ему ни на секунду выплеснуться за пределы безопасного русла. Меня изумляло, с какой естественностью, точно о предмете давно и незыблемо установленном, о котором не может быть двух мнений, Людмила Ильинишна говорила о необходимости всем пишущим перенимать стиль Иосифа Виссарионовича, «четкий и лапидарный, как у античных мастеров». И тезис свой выдвигала так, что гасло намерение возразить, и я допускал, чтобы мое молчание истолковывалось как признание его справедливости. Лишь потом, на улице, когда улетучивалось действие опасных чар обворожительной хозяйки, я ужасался прочности брони лицемерия, в какую раз и навсегда облачались те, кто составлял хор и свиту диктатора, усердную клаку, рукоплескавшую и кадившую своему идолу. Тряслись от страха и тянулись за милостями, в погоне за ними топили друг друга. Надетая личина преданного слуги и восторженного почитателя прирастала столь плотно, что становилась сущностью. Снять ее не приходило в голову и с глазу на глаз с человеком, общение с которым скрывалось от своего, привычного круга. Войдя в него в качестве супруги купленного с потрохами, задаренного, приближенного к трону даровитого писателя, Людмила Ильинишна не помышляла сбросить маску и став вдовой. И, женщина образованная и со вкусом, привычно искренне восхваляла беспомощный и корявый стиль недоучившегося семинариста! И это — перед изгоем, прошлое которого ей было известно… Хотя, само собой разумеется, и упоминания о нем не проскальзывало в наших разговорах. И я — слаб человек! — не выдерживал зароков, которые давал себе, больше не показываться в обставленных старинной ценной мебелью апартаментах советской графини, хотя и оценивал трезво, насколько тут не «мои» и не для меня сани.

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.
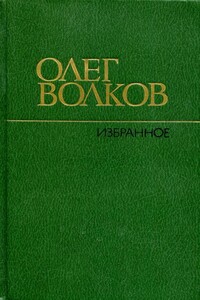
В книгу известного талантливого писателя и публициста Олега Васильевича Волкова вошли автобиографические повести «В тихом краю» и «В конце тропы», лучшие его рассказы: «Старики Высотины», «Егерь Никита», «За лосем», «Случай на промысле», а также воспоминания и эссе о русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
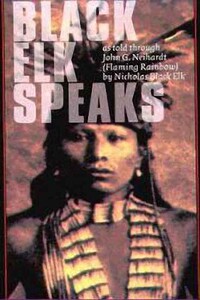
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
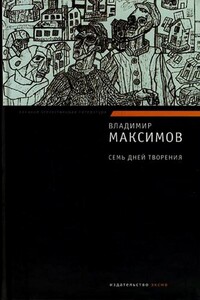
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
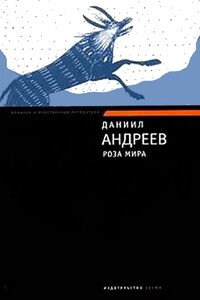
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.