Погружение во тьму - [162]
Ныне, спустя несколько десятков лет, трудно очертить свою жизнь в то беспросветное время, с ее неизбывными заботами и однообразием, ненарушаемым событиями или переменами течением. Ни гроз — неизреченная милость Божия! ни ярких солнечных дней, слов, высекающих в сердцах искру, окрыляющих сознание… Так бурлаки должны были, оглядываясь на свою жизнь, испытывать ощущение неизбывной тяжести, вспоминать натершую плечо лямку я длинные, унылые версты бечевников…
Жилось в те годы трудно, зарабатываемых обесцененных денег никогда не хватало, одеты были, несомненно, «pauvrement» (бедно), но далеко не всегда достаточно «proprement» (чисто), потому что мыло, как и все прочее, распределялось по карточкам, а нормы выдачи подсказывал, по-видимому, властям предержащим тот цыган из поговорки, что приучил коня кормиться у пустых яслей. Именно тогда власть дошлифовывала образ «правильного» советского человека, слепо перед ней холопствующего, распевающего на голодное брюхо хвалы ее попечениям и мудрости, уверенного в своем превосходстве перед разными прочими «несоветскими» народами и втайне им завидующего. Огромная нация со славным прошлым препоручила кучке властителей за нее думать, судить, определять ее пути и вкусы. Позволила исконное свое доброжелательное и терпимое отношение к иноплеменным обратить в агрессивный национализм, во враждебность ко всему несоветскому. И обращенная в тощую заезженную клячу, повторяла то, что велят и подскажут.
Должно быть, надвинувшиеся потемки вовсе задавили бы жизнь, не находись все же мужественные, светлые люди, искавшие случая помочь и выручить, пренебрегавшие опасностью. Делали они это, не выставляясь и не ища не только вознаграждения, но и благодарности. Обстоятельства сложились так, что я никогда не видел принявшего горячее участие в моей судьбе московского врача Лазаревича, лишь знавшего обо мне со слов сестры, детей которой он лечил. Теперь и не представишь себе, на какой риск надо было идти, сколько проявить настойчивости, чтобы устроить в привилегированную больницу — туберкулезный институт — бесправного высланного, лагерного ветерана, контрабандно наезжавшего в Москву.
Не пришлось мне видеть и сопроводительную бумагу — Ту липу, что была предъявлена начальству клиники. Но в некий день меня туда положили и потом три месяца лечили — наравне с полковниками госбезопасности, партийными сановниками, самим Отто Юльевичем Шмидтом! И пользовавший кремлевскую знать профессор Вознесенский стал самым добросовестным образом врачевать мое недужное горлышко, прописывать те же недоступные для простых смертных заморские лекарства, что и важным своим пациентам. Я иногда прогуливался по аллеям парка со знаменитым полярником, не раз пожимавшим руку вождю и особенно прославившимся потоплением своего корабля. С ним я еще находил о чем говорить — хотя бы об улицах Архангельска или красавице Северной Двине, но — Боже мой! — как было общаться с пятком гэпэушникрв едва не в генеральских чинах, чьи крики стояли в обширной палате, где помещался и я! Помогала хрипота; профессор запретил разговаривать. Но их беседы слышал поневоле. Не запоминал и не записывал, но могу свидетельствовать, что эти люди, совсем не обсуждали свое лечение, подробности ощущений, аппетит, физические отправления, толковали только о продвижении по службе, чинах, вакансиях, завистливо разбирали камеру счастливчиков, у которых «рука», и еще — кому что удалось вывезти из Восточной Пруссии в то незабываемое, единственное время (да здравствует Сталин!), когда орудия еще гремели под Берлином, а на завоеванную неприятельскую землю хлынули тыловики в военной форме и стали вагонами и эшелонами отправлять домой «трофеи»! И — само собой — не иссякали самые грубые казарменные анекдоты, весь смак которых в сальности выражений.
Занятые сверх меры собой, эти цветущие здоровяки — они проверялись «профилактически», поскольку состоящим в номенклатуре чинам вообще, а их ведомству особенно доступно по нескольку месяцев в году кантоваться по клиникам и санаториям — на меня смотрели свысока: какой-то издательский писака. Я же научен был не распространяться о своих заслугах и говорил неопределенно глухо: «переводчик, литработник». Халат больного избавлял от необходимости предъявлять паспорт!
Со старой, почти сорокалетней давности фотографии на меня глядит средних лет сухощавый, одетый в летнюю курточку человек в парусиновых туфлях, достаточно независимо расположившийся с книгой на скамейке среди едва распустившихся кустов и деревьев. В верхнем углу надпись: «Ялта. 1948». Это — я, хлопотами врачей отправленный на юг: приморская благодатная ранняя теплынь должна доделать то, что не поддалось лечению в клинике на Яузе: голос все не восстанавливался. Но как бы ни шло выздоровление — мягкий ветерок с моря, запахи распускающихся деревьев, тишина и безлюдье пустынного живописного южного города, обволакивающее мягкое ощущение расслабленности после многих напряженных лет, — все это поселило в душе мир, словно с Севером оставлены позади вечные заботы и страхи, дергания и вся зыбкость существования.

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.
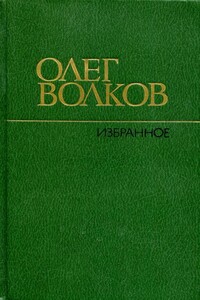
В книгу известного талантливого писателя и публициста Олега Васильевича Волкова вошли автобиографические повести «В тихом краю» и «В конце тропы», лучшие его рассказы: «Старики Высотины», «Егерь Никита», «За лосем», «Случай на промысле», а также воспоминания и эссе о русских писателях.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
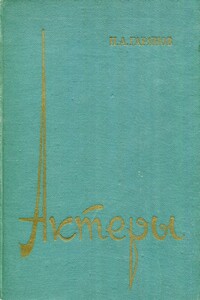
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.
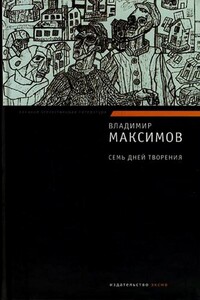
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
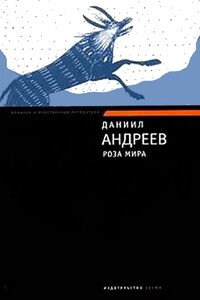
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.