Погружение во тьму - [158]
А я вот знал, что этот милый и сладкоречивый жрец науки выводит удовлетворительные отметки совершенным неучам и лодырям. Но, разумеется, не за банки мацони или кульки лобио, а за отрезы на костюм и пачки денег…
Пришлось мне несколько раз изгонять являвшихся ко мне домой со скромными свертками студентов — иностранные языки были дисциплиной второстепенной, отметки по ним всерьез не принимались, а потому и подношения были пустяшными, — причем изгонял столь горячо и даже шумно, что попытки меня одарить не возобновлялись. Так что хозяйка моя была права — я и в самом деле мог завести буфет с запасцами всякой снеди, но как вот, принимая зачет у студента-дарителя, смотреть ему в глаза? И я жил, никак не умея связать концы.
Бесконечно долго тянулись пустые и томительные, голодные воскресные дни. Хлеб, как правило, забран вперед, иногда на десяток дней — уломать продавца на большее было невозможно. Столовая закрыта; не было и загородной поездки к научникам, где меня привечали химик Галина Федоровна и ее мать, из потомственных оренбургеких казаков — гостеприимные, сердечные и простые.
Галина Федоровна была немного старше меня. Её в шестнадцать лет выдали замуж за диковатого есаула, от которого она сбежала через неделю, после чего жила в одиночестве. Отец ее, богатый офицер, увел своих казаков за рубеж, разоренная мать осталась с единственной дочерью. Она обожала свою Галочку, да и чувствовала, вероятно, вину перед ней, так что жили они спаянно и согласно. И когда дочь горячо взялась за мой быт — то платки подрубит, то скроит и сошьет сорочку «ли свяжет носки: она была выдающейся рукодельницей, — старая казачка всячески поощряла ее и всегда настаивала, чтобы Галина приводила меня к ним после занятий, угощала за обедом особыми оренбургскими лепешками, темным сахаром и патокой, вываренными из свеклы по рецептам дочери-химика.
Все это давно поглотили годы, и потому не будет нескромна здесь упомянуть, что я, как ни мало присматривался тогда к людям из-за поглощенности своими заботами, скоро заметил, что Галина Федоровна относится ко мне особенно внимательно и пристрастно, но полагал, что в этом — женское сочувствие к одинокому, выбитому из седла человеку. Лишь несколько лет спустя, встретившись с Галей в Ялте, я убедился, что был предметом привязанности более серьезной. Но у меня еще будет случай вспомнить эту достойную добрую женщину. Наде мне признаться в том, что, был смолоду избалован женским вниманием, сделался несколько легкомысленным по этой части.
Так вот, по воскресеньям ничего этого не было — обедом в субботу заканчивались мои трапезы до понедельника, и я проводил время, лежа на своем жестком ложе с закрытыми глазами, лениво перебирая в уме, что следовало бы предпринять, чтобы добыть что-нибудь съестное, но не шевеля для этого и пальцем. Овладевала мною в те часы великая необоримая апатия. Беда моя была еще и в том, что после лагерной голодовки я утратил способность наедаться при случае впрок, про запас и чувствовал поэтому постоянную слабость, словно какая-то пружина во мне сломалась. А потом я стал хрипнуть.
Врач, к которому я обратился, поморщился: все вы, лекторы и актеры, на один лад — горло, горло! Читать надо поменьше лекций, да вполголоса, не напрягая связок, утром полоскать горло…
Иначе на все взглянул мой приятель гинеколог, уже давно внимательно ко мне приглядывавшийся. Он потребовал, чтобы я разделся, прослушал мои легкие. После чего повел, ничего не объясняя, к своему другу — старому врачу-ларингологу. Тот долго меня мучил, заставляя тянуть звук «и» с высунутым языком, обследовал своим зеркальцем недосягаемые глубины гортани. Эскулапы потолковали между собой по-армянски, а на обратном пути мой милый Степан Акопович объявил мне, что у меня двусторонний дисеминированный процесс в легких и задета гортань, так что надо срочно ехать в Москву к профессору Вознесенскому — единственному специалисту, умеющему лечить горловую чахотку.
Я поверил лишь отчасти — горло-то не болело. Да и помнил, как ошибся лагерный эскулап, определив у меня туберкулез. Не прав ли тот врач из поликлиники? Великовата нагрузка, бывает — по шесть и даже восемь часов в день. Но в Москву все-таки написал — просил похлопотать о разрешении поселиться за пределами стокилометровой зоны от столицы, запретной для бывших заключенных.
Ответ — благоприятный — я получил лишь летом следующего, сорок шестого года. За это время мне сделалось хуже, хрипота усилилась, и я с трудом дотянул до конца учебного года. Попривыкшие ко мне студенты как бы сговорились сидеть на моих лекциях тихо, почти не переспрашивали, хотя чаще всего меня было плохо слышно. Директор, заведующий учебной частью, не говоря о Кленевской, словно не замечали моей хрипоты и даже относились ко мне подчеркнуто бережно и внимательно.
В эту первую послевоенную зиму жилось еще очень трудно, нуждались в самом необходимом, но появившиеся у меня друзья оградили от лишений. Валькирия, доктор, Галина Федоровна, несколько коллег и студентов, с родителями которых я довольно близко сошелся, снабжали меня наперебой, и если бы хороший стол с мясом, маслом, медом, фруктами мог вылечить, я бы, несомненно, поправился. Тогда-то я окончательно избавился от отеков, окреп, даже сгладилась непристойная худоба, но голос не возвращался; порой овладевало безнадежное настроение, и, думая о скором конце, я не делал никаких планов на будущее. Горевал, что вот — не удалось оставить после себя, как мечталось, мемуаров, которые послужили бы людям предостережением. Я, признаюсь, был высокого мнения о поучительности моего опыта, не оставлявшего иллюзий по поводу тупиков, куда завел Россию премудрый марксизм-ленинизм…

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.
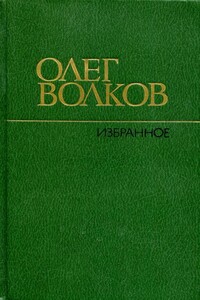
В книгу известного талантливого писателя и публициста Олега Васильевича Волкова вошли автобиографические повести «В тихом краю» и «В конце тропы», лучшие его рассказы: «Старики Высотины», «Егерь Никита», «За лосем», «Случай на промысле», а также воспоминания и эссе о русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
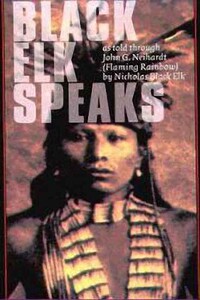
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
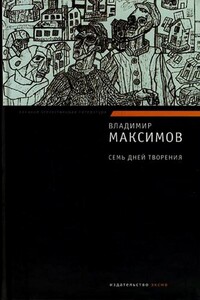
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
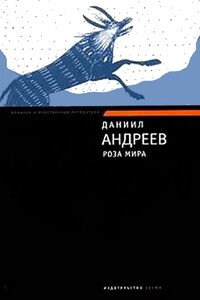
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.