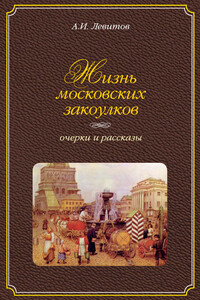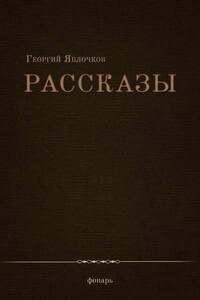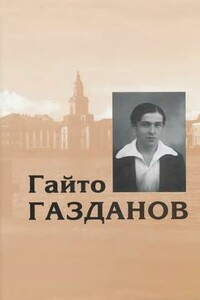– Отчего это? – допытывался я у фонаря. «Так!» – отвечал он, продолжая хохотать.
– Не может быть, чтобы так. Ты, наверно, знаешь, только не хочешь сказать. Ежели бы ты не знал, – усовещевал я его, – ты бы не смеялся.
«Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. В Газетном переулке, где я прежде стоял, тени у всех были обыкновенные, а здесь, видишь, какие? Кто только проходит по этим местам, особенно ночью, все меня спрашивают: отчего это? Я этому и смеюсь».
– Будто уж все? – спросил я.
Обиженный отошел я от него, справедливо воображая, что он знает гораздо больше того, нежели сказал мне.
«Не может быть, – думаю я про себя, – чтоб обитатели девственной улицы все имели такие длинные и более обыкновенного черные тени, как у меня и фонаря».
«У всех до одного такие!» – крикнул мне издали фонарь тонкою фистулой.
– Врешь! – ору я ему басом.
«У всех, у всех!» – снова донеслась ко мне фистула.
– Врр-решь, – изо всех легких трублю я в ответ и сам остаюсь необыкновенно доволен, что бас мой звонко раскатился по сонной улице.
Согласным хором ответили мне обывательские собаки, пробужденные моим криком.
«Сейчас издохнуть, ежели вру!» – донельзя убедительно прозвенел фонарь тонким голоском.
– А ежели ты не врешь, так я знаю теперь, отчего все вы сидите за дверьми дубовыми, за замками железными, – именно оттого, что у всех вас здесь тени очень длинны, – бормочу я. – А кто имеет длинную тень, тому нужно дома сидеть, – пародирую я Шамиссо.
– Обстоятельней докладывай, – прохрипел чей-то знакомый голос.
Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь догадаться, кому принадлежит этот голос.
– Говор-ри деликатней: я – твой начальник!
Тут я догадался, что это икающий ундер. Сильный морозный ветер подул мне в лицо, и к первой догадке моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьян. Только что пришел я к этому выводу, как, к крайнему моему удивлению, тень моя значительно уменьшилась…
Снова донесся до меня тонкий, насмешливый хохот фонаря; но голова моя была уж настолько свежа, что я теперь не обиделся на этот хохот.
«Вздор! – рассуждал я. – Это только так чудится мне».
Я перешел широкую площадь и повернул в другую людную улицу. Повстречался со мной какой-то барин в истерзанном пальто. Он спотыкался на каждом шагу, очевидно, направляясь в девственную улицу.
– Ежели они опять спрашивать станут, – бурлил он, – отчего я пью, не буду разговаривать с ними: прямо в зубы заеду…
Длинная тень бежала за истерзанным пальто… «Вот это действительность!» – подумал я.
Над самым моим ухом сторож затрещал в трещотку; посередине улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями: где-то гудели часы.
«И это действительность», – продолжал я пробовать свежесть моей головы.
– Ваше сиятельство! Что же на рысачке-то обещались прокатиться! – говорил совершенно незнакомый извозчик. – Полтинничек бы прокатали, ваше сиятельство. Ах! хорошо бы мне ночным-то делом на полтинничек съездить! Пра-а-ва!
Я совсем отрезвел, потому что мне предстояла длинная дорога до квартиры пешком, ибо полтинника, который бы мог, по мнимому обещанию, прокатать на рысачке, ни в кармане, ни дома у меня не оказывалось.
– И это действительность! – сказал я вслух и бодро принялся гранить замерзшую мостовую.
Извозчик, обманутый в своих ожиданиях, загнул мне вслед неласковое слово. Мне почему-то стало веселее от этого слова.
1862