Погибшее, но милое создание - [8]
Хозяин и гости пытаются отбить у нее ундера.
– За что ты его? – спрашивает хозяин. – Что ты это? Что ты делаешь?
– А ты что делаешь? – азартно осведомляется женщина. – Затянул в свою берлогу молокососа да на своей подлой сестре женить его хочешь? Пока жива буду, вот вам что!
И к самому носу будочника подносит она кулак свой. Саша равнодушно смотрела на эту сцену и улыбалась.
– Чему смеешься-то, паскудница? – заорала на нее незваная гостья. – Ах ты, подлянка! Чужих любовников отбивать вздумала. Не по носу табак: хрящ переест.
– Что ж ты не пьешь, Сизой? – сказала мне Саша. – Пей, пожалуйста. Черт знает, как скучно!
– Ты не ругайся, матушка! – посоветовал бабе бравый фельдфебель. – Видишь: здесь барин сидит.
И он указал на меня.
– Черт с вами, с подлыми, и с барином совсем! – еще громче кричала бабенка. – Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница, – тащила она ундера. – Я тебе задам жару. Будешь ты у меня свататься шляться!
– Говор-рри пош-штительней! – бурчал ундер. – Я твой нач-ччальник!
– Ух ты, рожа дурацкая! – бесчестила его попечительница. – Вишь, начальник какой нашелся.
И она заехала его по физиономии.
– Вишь, какая проворная! – толковала публика про неизвестную бабу после ее ухода.
– Напрасно я тюти ей вот этой не поднес, – печалился фельдфебель, показывая кулак. – Ей бы ничего: на здоровье пошло бы…
– Истинно, что напрасно, – согласился хозяин.
– Ну что, Саша? – спрашивал я. – Улетело твое счастье, что ты сейчас мне рисовала. Нужно тебе другого ундера искать, а то ты, пожалуй, так никогда и не исправишься.
– Черт с ним, с этим счастьем, – с досадой и отрывисто ответила она. – Неужели ты не понял, что братнины хлопоты о моей, как он называет, пристройке забавляют меня? Мое счастье во мне, Jean! Мне бы только крошечку поумнеть, да злиться перестать понапрасну, да на месяц лаять перестать: вот я тогда и счастлива буду… Пока придет это время, мы с тобой выпьем, веселей ждать…
– И я с вами! – ловко подскочил к нам на каблуках фельдфебель.
– Милости просим! – ответила ему Саша.
– Милости прошу ко мне в гости, – заискивающим тоном приглашал нас фельдфебель. – А ежели, может, насчет жены сомневаетесь – вздор!.. Когда она грубость какую скажет, я ей, Христос свидетель, рот передерну… Шуметь я с ней не буду тогда, – добавил он с громким смехом. – У меня ежели ты супруга, так ты меня спокой, потому на меня не налетай… Мы и без супруг на своем веку довольно много всякой коки с соком накушались! Ха-ха-ха!.. А то супр-руг-га!..
Очень поздно я вышел от именинника.
Девственная улица была совершенно пуста, и молчание самое невозмутимое угрюмо в ней царствовало. Вся заваленная страшными снежными сугробами, она представляла до того бездушную картину, что яркий свет молодого месяца нисколько не оживлял ее. Не было ни извозчиков, как в других улицах, ни просто людей. Ворота везде заперты тяжелыми замками, оконные ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми железными болтами.
Я очень хорошо знал, что тишина эта только кажущаяся, что не в одном только доме, откуда я вышел сейчас, кипит в настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселые или печальные сцены. Оттого мне и казалось весьма странным, что ни разу не удалось мне подметить ни одного проявления этой жизни ни на улице, ни в нескромных окошках. Думаю я: ведь непременно же в одном из этих домов, сейчас же, может быть, попечительница икающего ундера бьет и ругает его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улице, ни одной живой души в ней не вижу? Мне даже стало досадно оттого, что я не мог разрешить себе этих вопросов.
«Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце», – случайно попалось мне на язык.
Иду я и бессознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля[5], о котором сказал еще Шамиссо, как вдруг приметил я, что от низеньких домов девственной улицы падают на снежную дорогу громадные тени. Я остановился и осмотрелся. Моя тень показалась мне в пять раз больше обыкновенной тени, от меня отражающейся. «Вот странность! – подумал я про себя. – Отчего это у меня такая длинная тень?» Показалось мне в это время, что уличный фонарь, прикрепленный к столбу, как-то иронически посматривает на меня. Подошел я к нему близко, осмотрел я его со всех сторон, и действительно, невинный висельник смотрел на меня необыкновенно насмешливо. Подперся он в бок железным локотком и, каждую секунду подмаргивая мне своим огненным глазом, так и покатывается от смеха.
– Чему ты смеешься? – строго спросил я его. – Можешь ли ты смеяться в такое позднее время?
«Могу, могу», – отвечает он.
– Нет, не можешь! Ты светить должен, а не смеяться.
«Я смеюсь и свечу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тень».
– Вижу. Ну что же?
«А моя, посмотри, длинна ведь?»
Я взглянул и на его тень. Боже! Она невиданным змеем каким-то растянулась вкось улицы, пробежала через соседнюю широкую площадь и скрылась из глаз моих во мраке уж другой части города.
Изумление мое возросло в высшей степени, тем более что тень фонаря не лежала, как бы следовало, позади столба, а с непостижимым нахальством выпячивалась вперед. Фонарь больше и больше издевался надо мной.
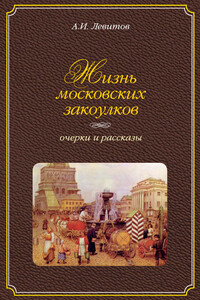
Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России.

«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…».

«Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами… И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что чтo умерло, то не воскреснет…».

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица…».

«У почтовой конторы в городе Черная Грязь стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин телеги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик…».

«В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес…».
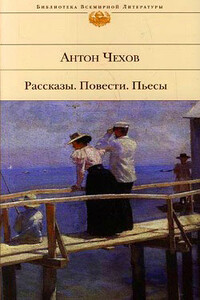
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
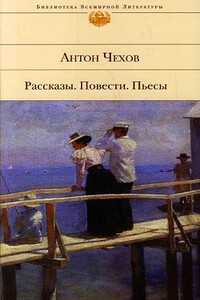
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
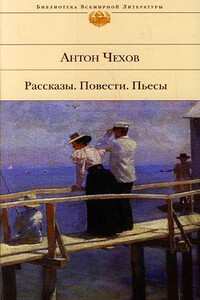
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.