Поэты [заметки]
1
Две тысячи лет с Вергилием // Иностранная литература, 1982, № 8, с. 193—201. [Статья основана на тезисах доклада, прочитанного осенью 1981 года в Мантуе (Италия) в рамках международного конгресса, посвященного Вергилию.]
2
См.: Curtius 1973, S. 197.
3
У латинского «pulcher» — очень богатая семантика, включающая, наряду с основным значением красоты, значения благородства, чести (как эллинское «kalon» и английское «fair») и торжественной святости (как немецкое «hehre»). Конечно, Вергилий вовсе не хочет изобразить сурового Брута, казнившего сыновей, каким–то влюбленным рыцарем свободы; восторг перед красотой — не более как подчиненный момент экстаза чести.
4
Гаспаров 1979, с. 10.
5
В речи 1944 года «Что такое классик?», почти от начала до конца посвященной Вергилию, как наиболее полному воплощению классического начала (Eliot 1945).
6
Вот свидетельство древнего биографа: «Еще до отъезда из Италии Вергилий договаривался с Варием, что, если с ним что–нибудь случится, тот сожжет «Энеиду»; но Варий отказался. Уже находясь при смерти, Вергилий настойчиво требовал свой книжный ларец: чтобы самому его сжечь» (Светоний 1964, с. 240).
7
Нельзя не вспомнить знаменитое изречение в конце «Фауста»: «Все преходящее — только подобье» («Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis»). To же слово обозначает по–немецки притчи Библии.
8
Между «изъяснением» и «прикровением»: ситуация образа в поэзии Ефрема Сирина // Восточная поэтика: Специфика художественного образа / Отв. ред. П. А. Гринцер. М., 1983, с. 223—260.
9
В «Краткой литературной энциклопедии» к понятию «сирийская литература» без всяких оговорок дана дефиниция: «литература сирий ского народа на арабском языке» (КЛЭ, т. 6, стб. 867. М., 1971). В статье не назван по имени ни один из центральных деятелей сирийской лите ратуры эпохи становления и расцвета — ни Вардесан (Бар–Дайсан), ни Афраат (Афрахат), ни Ефрем Сирин (Афрем), ни Куриллона, ни Филоксен Маббогский (Ксенайа); имя загадочного раннесирийского автора Мары бар Сарапиона грубо искажено, а писатель и ученый–энциклопе дист Григорий Абу–л Фарад ж бар Эбрей, пытавшийся воскресить си рийскую литературу в XIII веке, упомянут невразумительно, без указа ния эпохи, когда он жил, и жанров, в которых он работал. В «Боль шой советской энциклопедии» (3–е изд.) раздел о литературе в статье «Сирия» вообще начинается прямо с арабских авторов эпохи халифата (БСЭ, т. 23, с. 459. М., 1976), хотя чуть выше, в статье «Сирийский язык», можно прочитать: «Имеет богатую литературу V–XVII вв.» (там же, с. 450). Тем большее значение имеет труд заслуженного отече ственного специалиста Нины Викторовны Пигулевской («Культура си рийцев в средние века». М., 1979), к сожалению, увидевший свет после ее кончины.
10
Сирийское влияние, которое было наиболее осязаемым в области пластических искусств, в VI–VIII вв. достигало Ирландии через Испанию, ср.: Hillgarth 1961, р. 442—456.
11
Широко известна воздвигнутая в 781 г. в китайском округе Сианьфу стела с надписью на сирийском и китайском языках, свидетельствующей о наличии христианской общины во главе с епископом–сирийцем (несторианского вероисповедания). Многочисленные памятники говорят о присутствии сирийского влияния в Центральной Азии, ср.: Пигулевская 1979, с. 23, 170, 221. Что касается Индии, история «христиан св. Фомы» на Малабарском побережье, восходящая к первым векам нашего летосчисления, была неизменно связана с Сирией как традиционной метрополией (сирийский чин богослужения и т. д.), ср.: Roe 1892.
12
Расцвет сирийской христианской гимнографии в IV в. почти на два столетия опережает подъем византийского кондака (между тем как первые шаги латинской гимнографии, относящиеся тоже к IV в. — Иларий, Амвросий Медиоланский, — вели в совершенно ином направлении). Первый великий гимнограф Византии, Роман Сладкопевец, не случайно явился в Константинополь из Берита (современный Бейрут). Едва ли можно отрицать (как склонен делать видный греческий патролог П. Христу) влияние определенных жанровых структур, отработанных сирийскими авторами, на самые основы жанра кондака; здесь должны быть упомянуты мадраша с характерным для нее равновесием экзегетико–гомилетического и собственно поэтического элементов и согита с присущими ей возможностями диалогической драматизации священного сюжета, как бы разыгрываемого «в лицах», ср.: Dalmais 1958, р. 243—260.
13
См.: Пигулевская. Указ. соч. с. 141—149; Copleston 1962, р. 211—238.
14
Особенно осязаемо в русской традиции влияние эсхатологической образности Ефрема как автора «Слова о Страшном Суде», ср.: Федотов 1935, с. 119 и др. Впрочем, принадлежность Ефрему этого сочинения, каким оно было известно в греческом и славянском переводах, оспаривается. Во всяком случае, «дух» творчества Ефрема, типичные мотивы Ефрема в нем присутствуют.
15
В стихотворении 1836 года «Отцы пустынники и жены непорочны…»
16
Как известно, традиционное русское обозначение Исаака Ниневийского — «Исаак Сирин» (в пару к Ефрему Сирину), или «Исаак Сириянин». О Достоевском как внимательном читателе Исаака, немало почерпнувшем у него, например, для рассуждений старца Зосимы об аде как невозможности любить, см.: Достоевский 1976, примеч., passim; а также: Гроссман 1922, с. 45.
17
Деяния апостолов 11, 26.
18
Характерно, что римские императоры, благожелательно относившиеся еще в III в. к христианству и этим отчасти предвосхитившие политику Константина, — выходцы с Востока, как сириец Александр Север (чья мать Юлия Мамея в бытность свою в Антиохии приглашала к себе знаменитого христианского теолога Оригена), а позднее Филипп Араб. В качестве идеологии, противостоящей как греко–римскому язычеству, так и персидскому зороастризму и постольку санкционирующей самобытность пограничных народов — и арабов на юге, и армян на севере, но прежде всего сирийцев, — христианство сменяет в зоне «буферных» государств иудейскую веру, имевшую те же функции. Стоит вспомнить обращение в иудаизм адиабенской (сирийской) царицы Елены около 30 г., положение иудеев в Эдессе накануне христианизации последней (см.: Philips 187б)>у распространение иудаизма среди аравийских племен и т. п. О специфической окраске, которую получало христианство в контексте этнического самосознания отдельных народов Ближнего Востока, ср. острые и действительно глубокие, хотя излишне «профетические» (в духе традиций немецкого идеализма) замечания в работе А. Демпфа (Dempf 1964, S. 258—276). К вопросу о христианстве в Сирии см.: Barnard 1978, р. 194—223.
19
См.: Philips. Op. cit
20
См.: Шифман 1977, с. 285—297.
21
См.: Loofs 1924. Новейшие попытки пересмотреть представления о политическом лице Павла кажутся нам необоснованными.
22
История и особенно предыстория древнейших переводов Библии на сирийский язык (так называемая «Пешитта» и др.) представляют по причине слабой документированности много спорного, но, во всяком случае, восходят не меньше чем ко II в. К 170–м годам, по–видимому, относится сирийское сводное Евангелие Татиана (см.: Пигулевская. Указ. соч., с. 116—117).
23
Ср.: Black 1967.
24
Ср. цитату из пс. 10, 4 в первых словах кондака Романа на Неделю Ваий (№ 16 по изданию Мааса—Трипаниса, № 32 по изданию Гродидье де Матона).
25
Как известно, начальные слова «Исповеди» взяты из пс. 144, 3.
26
После того как благодаря открытию частных писем из административных документов римской эпохи на папирусах из Египта наши сведения о бытовом «койнэ» сильно обогатились, некоторое количество слов и оборотов, считавшихся библеизмами, уже нельзя рассматривать как таковые (ср.: Deissmann 1909, S. 37—99). Но с этой необходимой оговоркой понятие библеизмов не оказывается упраздненным, проблема библеизмов — снятой.
27
См. наш перевод этой секвенции; Памятники средневековой латинской литературы…, с. 189.
28
В известном письме 22 Иероним рассказывает, как в сновидении ангелы бичевали его, а Судия укорял: «Ты не христианин, а цицеронианец!»
29
Ср.: Brockelmann 1928, р. &8—94.
30
Из огромной литературы о Бфреме укажем: Пигулевская. Указ. соч., с. 130—140; El–Khoury 1976.
31
Bardenhewer 1924, S. 342.
32
Ср.: Райт 1902.
33
Третий диакон в истории ранней христианской гимнографии — Иаред, герой эфиопских легенд.
34
Ср.: Пигулевская. Указ. соч., с. 132—133; Baumstark 1922, S. 35, Fufinote 2.
35
Под именем Григория Нисского сохранилось похвальное слово Ефрему (Migne. PG, t. 46, col. 819—850). Целый ряд сочинений Ефрема дошел только в греческом переводе; впрочем, их принадлежность Ефрему часто является спорной, и вообще «греческий Ефрем» — одна из сложных проблем патрологии, см.: Hemmerdinger–Iliadon 1950, col. 800—815.
36
Влияние эсхатологических мотивов Ефрема фиксировано в аллитеративной поэме о конце света «Муспилли» (конец VIII — начало IX века, баварская монашеская среда) и в рифмованном переложении Евангелий Отфрида Вейсенбургского (ок. 865 года, круг Рабана Мавра). К этому перечню следует также добавить англосаксонского поэта IX века Кюневульфа. См.: Grau 1908.
37
См.: Andrae 1932, S. 71—72; Beck 1951, S. 71, Fimnote 2; Grqffin 1968, p. 103, note 1.
38
Baumstark Op. cit., S. 35.
39
См.: Beck 1958, S. 341—360; Barnard. Op. cit, p. 202—207.
40
Если верить агиографической традиции, даже знаменитый Рождественский гимн Романа Сладкопевца (Η* παρθένος σήμερον… — 24 большие строфы, объединенные строго логическим развертыванием сюжета, блистающие тщательной риторической отделкой слога и безупречно выдержанной сложной метрической организацией) — не что иное, как боговдохновенная импровизация (мотив, повторяющийся во всех житийных текстах о Романе, например в заметке Минология Василия Π — Migne. PG, t. 117, col. 81; ср.: Аверинцев 1977a, с. 448—449). Историку агиографических топосов легенда эта весьма интересна; но если из нее что–нибудь может почерпнуть историк гимнографии, так разве что самое общее (хотя, может статься, не всегда излишнее) напоминание о том, что даже столь отделанный гимн Романа есть по своему внутреннему заданию не совсем «произведение литературы» в том смысле, в котором «Энеида» — произведение литературы, так что поэзия Вергилия допускает интерес к подробностям психологии творчества (проявившийся, например, в Светониевой биографии Вергилия, гл. 22—24), а поэзия Романа — нет (и одна из функций легенды — блокировать возможность такого интереса); иначе говоря, Роман все–таки стоит между «литератором» и, скажем, библейским пророком, хотя и много ближе к «литератору», чем Ефрем. Последнего легче вообразить действительно импровизирующим какой–нибудь из своих гимнов.
41
Ср. попытки ввести для удобства читателя поясняющие заголовки к псалмам и главам посланий в стандартных немецких изданиях лютеровского перевода Библии (отсутствующие у Лютера); контраст между прямолинейностью заголовка и непредсказуемостью движения мысли в тексте довольно поучителен.
42
А также их последователей в Новое время — не только одописцев классицизма, но также молодого Гёте и Гёльдерлина.
43
Гаспаров 19806, с. 368.
44
Там же, с. 374.
45
Гаспаров 1980а, с. 354.
46
По сообщению, передаваемому Созоменом, Ефрем в общей сложности написал около трех миллионов (!) двустиший (Hist. eccl. Ill, 16, Migne, PG, t. 67, col. 1088 B).
47
Ср., например: Lehmann 1941, S. 71—74; Lewis 1967, p. 1—5.
48
А также, пожалуй, харизматиками раннехристианских общин, от духа которых так много было сохранено сирийским христианством времен Ефрема. Новозаветные тексты говорят о «пророках» как всеми признаваемом сане в начальной церкви: «кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 послание к коринфянам 14, 3).
49
Слова Амоса: «Я не пророк и не сын пророка» (Книга Амоса 7, 14) — предполагают как норму наследственность пророческого сана (ср. ниже примеч. 44).
50
Таковы отношения Илии и Елисея (3 Книга царств 19, 16—21; 4 Книга царств 2, 2—14).
51
Ср.: Hempel 1939, р. 113—132; Sellin, Fohrer 1969, S. 380—392.
52
К бытовой, социальной характеристике феномена ветхозаветного пророчества относится, например, рассказ о Сауле: «Когда пришли они к холму, вот, встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Кисовым? неужели и Саул во пророках?!» (1 Книга царств 10, 10—11). Изумление вызывает именно то, что человек всегда стоявший вне корпорации («сонма пророков»), по внезапному вдохновению включился в их экстаз; этого нормально не полагалось. Другое название корпорации, подчеркивающее признак наследственной к ней принадлежности (см. выше примеч. 41), — «сыны пророков». Оно предполагается общепонятным, например, в 4 Книге царств 2, 3: «И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею, и сказали ему…»
53
О противоположности между типами «пророка» и «литератора», а также о значении самого факта существования риторической теории для конституирования типа «литератора» см.: Аверинцев 1971, с. 206—266.
54
Проблемы древнееврейской метрики во многом остаются неясными. Многочисленны попытки объяснить отклонения от метрической нормы, как мы ее понимаем, интерполяциями; но сама возможность такого рода интерполяции (интерполятор греческого гекзаметра добавит лишнюю строку, но не произвольное число слов) свидетельствует о том, что норма ощущалась не слишком отчетливо.
55
De Paradiso 1, 12, 5.
56
В применении к текстам, в традиционной записи которых отсутствует графическое членение на стихи, понятие стиха условно. Некоторой заменой выделения нашей «строки» является астериск, отмечающий конец колона в рукописях византийских гимнографических текстов.
57
Вот для примера схема каждой строфы из наиболее известного Рождественского гимна Романа:
UU — UU — — UU — U — U U
UU— UU— — UU—и— ии
и—ии— U U— UU— U
U— U— U — UU— UU U— U U— UU
U— U—и —ии—ии
— u u и— —ии— UU
U— U— U U— U— U
UUU— UUU— иии— UUU —
UU— UU — U ии— UUU — и
U— U— U UUU — UU —
58
В современной гебраистике производятся попытки реконструировать регулярную строфическую структуру в таких памятниках древнееврейской поэзии как «песнь о мудрости» в Книге Иова, гл. 28 (специально повторение в стихах 12 и 20 рассматривается как остаток рефрена, выпавшего в других местах; вообще предполагается, что структура затемнена позднейшими деформациями), см.: Fohrer 1963. Однако попытки эти остаются сугубо гипотетическими.
59
Единообразие это порой чуть–чуть перебивается; например, в строфе, состоящей из двенадцати пятисложников, восьмой пятисложник может быть заменен двусложником.
60
Сложная строфика грекоязычных церковных гимнов, как сложная строфика Пиндара, была, вне всякого сомнения, связана с обликом возвращающейся мелодии, см.: Wellesz 1949; Wellesz 1957; Wellesz 1966; Werner 1959.
61
Аристотель по другому поводу (в связи с характеристикой идеального эпического действия) определяет «целое и законченное» как «имеющее начало, середину и конец» («Поэтика» XXIII, 59а 18, пер. М. Л. Гаспарова). О важности феномена вступления для античного понимания литературного текста как эстетического целого, замкнутой в себе формы, нам приходилось писать в другом месте: «Внутренний ритм вступления не безразличен к объему открываемого вступлением текста, он уже предполагает этот объем заранее данным, как замкнутую пластическую величину с четкими контурами, не могущую сжаться или растечься в нарушение своей меры…» (Аверинцев 1971, с. 224).
62
Мы рассматривали эти функции применительно к гимнам Романа (Аверинцев 1977а, с. 210—220).
63
Graffin 1968, р. 16.
64
Примеры звуковой и словесной игры очень обильны в благословениях Иакова (Книга Бытия 49, 3—27) и Моисея (Второзаконие 33, 1—29), см.: Sellin, Fohrer. Op. cit., S. 71.
65
Такая реконструкция осуществлялась целым направлением семитологии в англосаксонских странах. Итоги работы нескольких поколений ученых подведены в книге М. Блэка (Black. Op. cit.).
66
Первый икос, девятый и десятый хайретизмы.
67
Об этой системе парных сопряжений см.: Аверинцев 1977а, с. 234—236.
68
Один из особенно ярких примеров — гимн на Страстной Четверг о предательстве Иуды (№ 17 по изданию Мааса—Трипаниса).
69
Xydes 1948.
70
Как известно, слово «демиург», примененное Платоном и платониками к творцу мироздания, нормально употреблялось по–гречески в применении к мастеру. Другое слово — «ποιητής» — обозначает в Никейско–Константинопольском символе веры Бога как «творца» неба и земли; одно из значений этого же слова— «поэт».
71
«Если демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и потенции данной вещи, все необходимо выйдет прекрасным» («Тимей», 28а, пер. С. С. Аверинцева: Платон 1971, с. 469;.
72
Данилова 1970, с. 163.
73
О принципе ενάργεια как одной из центральных характеристик греческой литературной традиции см.: Аверинцев 1971, с. 224—229. Средства создания наглядности в поэтике Романа еще подлежат изучению, но предварительно можно отметить насыщенность текста причастными конструкциями, уточняющими обстоятельства образа действия; например, в Рождественском гимне о Марии, поклоняющейся младенцу Христу — «поникнув (κύψασα), преклонилась, и з а — плакавши (κλαίουσα), сказала…» (№ 1 по изданию Мааса—Трипаниса).
74
О различии между «греческим мышлением» и «сирийским мышлением», т. е. языковой детерминацией мысли и воображения в грекоязычной и сироязычной христианской литературе, см.: Adam 1965, S. 96—102.
75
Ср.: Argan 1955, S. 101—109.
76
Вторая книга Маккавейская 7, 1—41. Речь идет об иудеях, казненных за верность отеческим религиозным традициям во времена эллинистического монарха Антиоха IV Эпифана (175—164 до н. э.), в которых церковь увидела собратий христианских мучеников; в православном календаре им отведен особый праздник 1 августа, христианское предание называет их имена, не названные в библейском тексте.
77
Примером могут служить наиболее характерные и удачные гимны из посвященного мученикам цикла латинского христианского поэта IV–V вв. Пруденция «Перистефанон» — о святых Лаврентии, Евлалии, Винцентии, Кассиане, Романе, Ипполите, Агнесе. Более или менее чистое господство нарративного элемента наблюдается во всех 14 стихотворениях этого цикла.
78
Таков, например, гимн Романа Сладкопевца всем мученикам (№ 59 по изданию Мааса—Трипаниса). Сюда же относятся небольшие гимны, которые принято называть «стихирами» и «похвалами». Поздний учебник риторики, уже в иную эпоху обобщающий опыт Византии, предлагает образцовый энкомий мученикам: «…Мученика ли ты упомянул; то в тот же час ему тысящу венцов сопле л, и одним только словом неисчетные панегирики и похвальные слова заключил. Мученики, естьли ты еще не знаешь, силою, жилами, и душею суть всего Христианского жительства. Они суть Столпы, на коих гневом воспалившихся Мучителей ярость и лютость расточилася. Они светлыя свещи, кои во тьме Ид о л ос лужения паче Солнца просияли. Они самые Бриареи, сточисленными руками бившиеся, и еще толиких же тел себе желавшии, на большее супротивление своим врагам…» — и т. д. (Златослов… 1779, с. 22—23).
79
Таковы, например, оба гимна Романа в честь 40 севастийских мучеников (№ 57 и 58 по изданию Мааса—Трипаниса).
80
Кукулий — букв, «капюшон», как бы «шапка» гимна: зачин кондака или акафиста, особая вступительная строфа, соединенная с прочими строфами (икосами) общим рефреном, но отличающаяся от них иной метрической структурой, меньшим размером и специфическим содержанием «прооймия» (либо сжатое суммирование темы, либо воззвание к Богу или верующим).
81
Здесь и ниже перевод наш, по изданию: Ephraem 1889, coll. 685—695.
82
Hymn. De Paradiso VIII («Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium», 174).
83
Гимны, построенные по формальной модели Акафиста Богородице, начали возникать в греческой гимнографии на исходе византийской эпохи, примерно через семь–восемь веков после возникновения своего образца. В греческом обиходе их называют икосами, резервируя наименование Ύμνος Ακάθιστος для образца, а по–русски — акафистами; то, что у греков называется «Икосы на Иисуса Христа», у русских называется «Акафист Иисусу Христу». Сочинение новых «акафистов» в русском провинциальном монастыре конца XIX века — тема рассказа Чехова «Святою ночью».
84
Как известно, даже тексты наиболее ранних литаний («Лоретанской», «Всем святым») многократно перерабатывались в течение веков.
85
Примером может служить сонет немецкого поэта XVII в. Андреаса Грифиуса «An die Sternen», в котором звезды последовательно названы «огнями», «светочами», «алмазами», «цветами», «стражами», «свидетелями», «герольдами».
86
В стихотворении другого немецкого поэта той же эпохи, К. Гофмана фон Гофмансвальдау, первые же две строки задают вопрос: «что есть мир?» Следует долгий ряд ответов, каждый из которых занимает по строке: это скудное и недолгое мерцание, быстротечная молния, пестрое поле трений, красивая с виду больница, дом рабьего труда, покрытая алавастром гробница и т. п.
87
Brockelmann. Op. cit., 579b.
88
Памятником этой популярности является поэма о фениксе, дошедшая под именем Лактанция (рус. пер. Ю. Ф. Шульца см.: Памятники поздней античной поэзии с. 184—188).
89
Ephrem 1961, h. 9.
90
В ветхозаветном тексте сказано, что бог творит своими служителями — «огонь пылающий» (пс. 103/104, 4). Есть рассказы об ангелах, поднимающихся в столбе жертвенного дыма, как в эпизоде жертвоприношения будущих родителей Самсона (Книга Судей 13, 20—21); упоминаются ангелы в виду огненных колес — офаним (Иезекииль 1, 10). Христианская гимнография и агиография постоянно говорит об «огневидности» ангельской природы. Псевдо–Дионисий Ареопагит отмечает сродство ангелов с огнем молнии и с очистительным огнем жертвоприношения (De coel. hier. VII, 1).
91
Характерный пример — Исход 28, 29—30, ср.: Buber 1964, S. 1095—1109.
92
Помимо семитских языков, греческого языка, латыни и всего семейства романских языков так обстоит дело в славянских языках; исключение — германские языки, где семантика «духа» этимологически связана с семантикой экстатического ужаса.
93
Buber. Op. cit., S. 1097—1104.
94
Brockelmann. Op. cit., 718ab; Lisowsky 1958, S. 1321—1323.
95
Вплоть до современного иврита; см.: Шапиро 1963, с. 567. Напротив, греческое πνεΰμα в современном языке окончательно утратило семантику «ветра»; см.: Хориков, Малев 1980, с. 634—635.
96
Brockelmann. Op. cit., 722b.
97
Ср. псалом 80/81, 11.
98
Hymn, de Fide Χ, 1 («Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium», 154. Louvain, 1955).
99
Там же, 22.
100
Ср. выше примеч. 82; а также, наши замечания в кн.: Мифы народов мира, т. I. М., 1980, с. 76—77.
101
Об этом материале см.: Barnard. Op. cit., p. 194—223.
102
Этот уклон характеризует, как известно, и Антиохийскую школу, являвшуюся как бы соединительным звеном между сирийской и грекоязычной теологией.
103
Ср.: Аверинцев 1977а, с. 173—174.
104
Слова собеседника дитяти Симеона, будущего столпника, из жития этого святого, см.: Житие Симеона, с. 25.
105
Lisowsky. Op. cit., S. 893.
106
VII Немейская ода, пятый эпод, пер. М. Л. Гаспарова, см.: Пиндар. Вакхилид 1980, с. 143.
107
Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци // Литературная Армения, 1986, № 1, с. 49—60; Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. М., 1988, с. 11—26 (Памятники письменности Востока. LXXVII).
108
Четьи минеи на 21 месяца мекехи (ср. также Житие Григора Нарекаци, с. 321).
109
Пер. Л. А. Ханларян, которой автор выражает самую сердечную благодарность за всестороннюю и великодушную помощь.
110
См.: Исаак Сириянин 1911, с. 206.
111
Обе цитаты — выражение взглядов, отчасти основывавшихся на авторитете Иоанна Златоуста (ум. 407) и оспаривавшихся в начале XVI века в «Слове на ересь новгородских еретиков» Иосифа Волоцкого (Памятники литературы Древней Руси…>9 с. 324 и 346). Ср. также «Ответ кирилловских старцев» на это послание Иосифа Волоцкого (там же, с. 358—362).
112
Цитаты из Григора Нарекаци приводятся в переводе М. О. Дарбинян–Меликян и Л. А. Ханларян.
113
См.: Казинян 1982, с. 137—151.
114
Мкртчян 1977, с. 8.
115
Ср.: Миллер 1972, с. 360—369.
116
Ouspensky 1960, р. 216.
117
Ср.: Curtius 1973, S. 120, 202, 239, 250 и. а.
118
Епифаний Премудрый 1973, с. 195.
119
Лихачев 1962, с. 56. Ср. также: Лихачев 1979, с. 107.
120
Лихачев 1962, с. 57.
121
Там же, с. 60—61.
122
Dionysii Areopagitae De mystica theologia 3 (Migne, PG, t. 3, col. 1033).
123
Ср.: Аверинцев 1977a, с. 139—140.
124
Флоренский 1914, с. 158.
125
Если это спорное место не значит «между вами» — но даже и в таком случае запредельные ценности локализуются если не в человеческой душе, то в общении между людьми.
126
Поэзия Державина // Г. Р. Державин. Оды. Л., 1985, с. 5—20.
127
Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах Жуковского в 2–х томах, т. 2. М., 1985, с. 553—574; Сб. Жуковский и литература конца XVIII–XIX вв. М., 1988, с. 251—275.
128
Письмо С. С. Уварову от 12/24 сент. 1847г., см.: Жуковский 1980у с. 535—536. Ср. письмо к И. В. Киреевскому, напечатанное в «Московитянине» (1845, № 1).
129
Ср.: Егунов 1964, с. 369—370.
130
Там же, с. 369.
131
Гоголь 1952, с. 236—244. Характерно заявление Гоголя: «В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца… Многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли» (с. 243—244). Надежда на внезапное преображение русского общества от прихода к нему «Одиссеи», конечно, наивна, и высмеивать ее проще простого; но характерно само ощущение древнего эпоса не как прошлого, а как будущего, грядущего, наконец–то являющегося к нам. Что касается простодушных утопических чаяний, вне их невозможно было бы вдохновение живописца Александра Иванова, также обратившегося к древности как небывалой, потрясающей новизне. Об этих чаяниях см.: Неклюдова 1971, с. 48—115.
132
Ср.: Егунов. Указ. соч., с. 353—357.
133
См.: Kindlers Literatur–Lexicon, Bd. 22. Munchen, 1974, S. 9734.
134
Гоголь 1952, с. 377.
135
Ратгауз 1974, с. 14—15.
136
Чешихин 1895, с. 171.
137
См.: Семенко 1975, с. 159.
Чтобы лучше оценить переводческую чуткость Жуковского, приведем для контраста перевод «Phidile» Μ. Клаудиуса, выполненный в 1814 году Дельвигом. Стихи Клаудиуса с грубоватым юмором, вовсе не чуждым немецкому и английскому (Стерн!) сентиментализму в отличие от русского, рисуют глупенькую крестьянскую девушку, одновременно невинную и чувственную, невинность которой выставляет в смешном виде ее чувственность, а чувственность снижает изъявления ее невинности. Она так описывает своего милого: «Вокруг его шеи ниспадали красивые длинные волосы, и такой шеи, как его шея, я еще никогда не видала». Девица у Дельвига не может сказать ничего подобного, и упомянутое место переведено: «Его кудрявые власы // Вкруг шеи обвивались, // Как мак сияет от росы, // Сияли, рассыпались». У Клаудиуса: «То, что он говорил, было тоже очень хорошо, только я ни слова не поняла». У Дельвига: «Мы не сказали ничего, // Но уж друг друга знали». Это вообще не перевод; но вот вроде бы и перевод. Крестьянка Клаудиуса стыдливо избычивается: «И оба моих глаза глядели вниз, на грудь». Девица Дельвига «на перси потупила взгляд» — почти те же слова, но интонация не имеет с подлинником ничего общего: вместо угловатой немочки возникает пастушка из Аркадии, открытия сентиментализма вытеснены общими местами во вкусе рококо. В довершение беды героиня Дельвига при этом «краснела, трепетала» — в оригинале она куда спокойнее, ее понятное волнение далеко от страсти, врожденный крестьянский здравый смысл, а также, надо полагать, спасительный страх перед родительской розгой и пасторским внушением явно возбраняют ей терять голову. В целом атмосфера подлинника не просто изменена, что происходит и у Жуковского. В переводе Дельвига от этой атмосферы не осталось ровно ничего: ни юмора, ни бытовой точности, ни немецкого национального колорита, ни индивидуальности Матиаса Клаудиуса — умиленного и одновременно очень трезвого певца маленьких людей и жизни души среди будничных положений, предтечи бидермайера. Написать то, что написал Дельвиг, можно было, не зная немецкого языка, не читав Клаудиуса; переводчик не узнает из оригинала ничего такого, чего не знал бы помимо него. Напротив, Жуковский искал у англичан и немцев как раз то, чего недоставало русской поэзии и чего заведомо не было у ее прежних менторов — французов. Самые границы возможностей русского языка расширяются в его переводах, ибо переведенный текст многосложно связан с иноязычным оригиналом. Мы привели выше строку «Царица сидит высоко и светло»; отчасти несравненная эстетическая дипломатия Жуковского, но прежде всего привычка закрывают от нас дерзость языкового эксперимента: «сидит… светло» (дипломатия — в том, что между неожиданно сопряженными словами стоит слово «высоко», легко вступающее в соединение и с предыдущим: «сидит высоко», — и с последующим: «высоко и светло»). Образец дан структурой немецкой поэтической речи, где неизменяемые постпозитивные прилагательные в известной мере совмещают семантику чистого эпитета (тогда «sitztklar» = «сидит светлая», в чем нет ровно ничего озадачивающего)— и наречия. Если в немецкой конструкции сквозь прилагательное как бы просвечивает наречие, то в оригинальной русской конструкции Жуковскогосквозь наречие как бы просвечивает прилагательное; первое обычно для языка, второе — нет, однако ощущения насилия над русской речью, «варваризма», отнюдь не возникает, просто у этой речи словно открывается окно наружу. (Этот случай, пожалуй, еще интереснее, чем другой семантический эксперимент Жуковского, привлекший к себе в свое время внимание Тынянова, — знаменитое «раздается… там, в блаженствах безответных»; «блаженства» в значении «блаженные места» — смело, и смелость эта возникла из практики перевода, из буквальной передачи оригинала, однако не связана со спецификой немецкого и русского языкового строя в их взаимном соотношении. «Durch die 6den Seligkeiten» Уланда столь же необычно, хотя не так тщательно подготовлено — лексически и фонически, — как у русского поэта).
138
Акцент на слове «личной» означает, что рефлексия эта не сводится к характерному для риторической культуры подведению частного случая к абстрактно–всеобщему положению (это было нами сказано в другом месте: Аверинцев 1981, с. 15—46); не сводится, хотя, конечно, включает этот момент.
139
Как известно, субъективное самоопределение Державина представляется почти до гротеска неадекватным: он ставил себя в связь с Горацием, чуть ли не самым несродным ему из поэтов древности, и полагал, что его, Державина, анакреонтические стихи звучат плавно, раз в них избегается звук «р». Но даже когда он говорит, что писал «в забавном русском слоге», эта автохарактеристика, которая может показаться нам достаточно смелой и реалистичной, в контексте традиционной риторической системы просто отсылает к одному из подразделов этой системы, т. е. опять–таки растворяет личность поэта в общих и условных категориях.
140
Ср., например: Buck 1939; Ritzel 1958; Grimsley 1961.
141
Белинский 1947, с. 27.
142
Ср.: Enzensberger 1971, S. 88—95.
143
Эта сторона романтизма полно суммирована у Цветаевой: а Быт? «Быт русского дворянства в первой половине XIX века». Нужно же, чтобы люди были как–нибудь одеты» (Цветаева 1980, т. 2, с. 345).
144
Humboldt 1909, S. 132.
145
В письмах А. — Ф. — К. Штрекфусу от 27 января 1827 года и И. — С. — М. Буассере от 12 октября 1827 года, а также в разговоре с Эккерманом от 31 января 1827 года. Ср. подборку: Textsammlung zur Literaturtheorie. Berlin, 1975, S. 139—143.
146
Причудлйво–демоническое «Варвик» вместо обыденного «Вильям», таинственное «Эльвина» вместо привычного «Эмма», «Алонзо» — вместо «Дуранда», «Изолина» — вместо «Бланки», «Адельстан» — вместо «Рудигер».
147
Подгаецкая 1976, с. 237.
148
Для любознательных Жуковский разъяснил все эти реалии в примечаниях, почерпнутых из оригинала; но этим только подчеркнут контраст между внешним миром и внутренним миром стихотворения, где ничего разъяснять не нужно.
149
См.: Егунов. Указ. соч., с. 359—374 и др.
150
Ср. брошенное вскользь замечание: «Никто никогда не будет судить об идеологии Шиллера по переводам, куда Жуковский от себя вписал строчки: «И смертный пред богом смирись»или «Смертный, Силе, нас гнетущей, покоряйся и терпи»» (. Автономова, Гаспаров 1969, с. 111).
151
Белинский. Указ. соч., с. 326.
152
Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Контекст. 1989. Литературно–критические исследования. / Отв. ред. А. В. Михайлов. М., 1989, с. 42—57.
153
Некоторое время назад было принято больше принимать всерьез Вячеслава Иванова как теоретика, нежели как поэта; выражение этой точки зрения — известные слова Ахматовой: «Всеобъемлющий ум», но поэзия уже «не существует» (Ахматова 1968, с. 340). Сейчас вспоминать эти слова несколько странно. Что заново становится живым, так это поэзия Вячеслава Иванова с присущим ей кровным ощущением всечеловеческой культурной памяти, «анамнезиса», борющегося с забвением. Поэзия нужна; теория «интересна» или «поучительна» — другой иерархический уровень.
154
Письмо от 13/26 августа 1909 года (Мандельштам 19736, с. 262). Слово «стихия» в приложении к Вячеславу Иванову может показаться неожиданным; оно не так тривиально, как в приложении к Блоку, но оно оправдано, ибо «филология» действительно приобретает в стихах Иванова безоглядность лирической стихии. Соотношение «искусственного» и «стихийного» здесь очень непросто. Как замечал в свое время Андрей Белый, «искусственность Вячеслава Иванова — непосредственна в нем» (Белый 1916, с. 123).
155
III, 494. Здесь и ниже цитаты из Вячеслава Иванова, источник которых не оговорен особо, даются по наличной на сегодняшний день части «Собрания сочинений», выходящего в Брюсселе под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт (О. А. Шор): римские цифры означают том, арабские — страницу. Когда мы стремимся схватить облик Вячеслава Иванова как поэта, его человеческую позицию в его поэзии, особая проблема — соотношение между культурной общительностью и творческим одиночеством. «Башня» — колоритный и достаточно важный факт русского культурного быта начала века; но, когда мы думаем о поэзии, о «Башне» лучше на время позабыть. Мемуаристы описали то, что запомнили, а запомнили они то, что видели, — гостеприимного хозяина «сред», «Вячеслава Великолепного» в обстановке очень живого, но слегка горячечного духовного общения. «Дверь — в улицу: толпы валили», — описывает это раздражительный и впечатлительный Андрей Белый (Белый 1933, с. 314). Но даже в чисто внешнем, биографическом плане творческий путь Иванова начинается годами глубокого уединения и кончается тоже годами глубокого уединения; да и решительный поворот на середине этого пути к новой поэтике «Нежной тайны», «Младенчества» и «Зимних сонетов» тоже связан с уединением. Контраст этих времен с общительным временем «Башни» составляет тему VII сонета из цикла «De profimdis amavi» (1920, сб. «Свет вечерний»; III, 577):
О, сердце — встарь гостеприимный стан,
Шатер широкий на лугу цветистом,
Огней веселье в сумраке душистом,
Кочующий дурбар волшебных стран,
Где всех царевич, белый чей тюрбан
Отличен непорочным аметистом,
Приветствует нарцисса даром чистым
И ласковою речью: «Друг, ты зван» —
Как ты любовь спасло?
Увы, ты ныне
В железном, крепко скованном тыну
Затвор, подобный башенной твердыне.
С ее зубцов на пир у стен взгляну —
И снова духом в Божией пустыне
За тихими созвездьями тону.
Но и во время «Башни» скрытой основой общительности было, конечно, уединение, которого мемуаристы видеть не могли: вполне эмпирическое уединение за рабочим столом, но и внутреннее уединение — «in mundo solus».
156
Ср., например, очень показательное письмо Брюсову от 14/27 января 1905 года (Брюсов 1976, с. 471—472); оно многое разъясняет в психологической установке Вячеслава Иванова, апеллирующего к мудрости «государственного человека». Из–за соблюдения своеобразного этикета, между прочим, так трудно реконструировать в самой относительной полноте круг чтения этого многоученого поэта: как правило, он цитирует в своих статьях авторов, тщательно отобранных и принятых в некий канон, избегая цитировать авторов «неканонических». В его канон входит Данте, но не входит средневековая латинская поэзия секвенций, которой, однако, поэт должен был очень глубоко пропитаться, чтобы из его сновидения наяву могла сама собой возникнуть «секвенция» «Breve aevum separatum» (см.: I, 130—131; И, 395); исключена, за вычетом Кальдерона, европейская поэзия XVI–XVII веков, столь близкая Иванову; или, чтобы остановиться на примерах более поздних, в канон входит Ницше, но не входит Рихард Вагнер, оставаясь в лучшем случае на границе канона. Любопытно, что единственное место из вагнеровских текстов, которое несколько раз цитируется в статьях Иванова (в его собственном переводе), — это монолог Ганса Закса о сущности поэзии из «Мейстерзингеров», уже процитированный в «Рождении трагедии» Ницше и этим как бы приобщенный канону. (Через тысячу лет филолог мог бы сделать из этого вывод, что поэт никогда не читал и не слушал вагнеровских музыкальных драм и знал о них только из Ницше, что заведомо абсурдно.) Никто из «неканонических» никогда не процитирован у Иванова только потому, что Иванов его знал, или даже только потому, что Иванов его любил. На связь этого отбора «канонических» авторов и текстов с культурно — «дипломатической» миссией и культурно — «политической» волей Вячеслава Иванова обратил мое внимание Н. В. Котрелев, великодушной помощи которого я вообще многим обязан в моей работе над этими темами.
157
Последним высказыванием Вячеслава Иванова о символизме была, как известно, статья 1936 года «Simbolismo» для «Enciclopedia Italiana», и она уже написана в существе своем иначе, чем теоретические тексты прежних лет: иной тон.
158
Ахматова находила, что в стихах Вячеслава Иванова много «Бальмонта» (см. выше примеч. 1). Само по себе это означает трюизм: всякий поэт, каким бы оригинальным, неуступчивым, несговорчивым творцом он ни был, есть также современник своих современников и постольку не может быть стопроцентно огражден от некоторых недугов времени. Ряд поколений, принадлежащий тому же времени, нечувствителен к этим недугам, зато следующий ряд поколений подмечает их с повышенной раздражительностью; позднее всему пора встать на свои места. Мы имеем право возразить на замечание Ахматовой, что нам интересны те стихи Вячеслава Иванова, в которых «Бальмонта» нет. (Она сама же сказала: «Вот «Зимние сонеты» — это да».) Едва ли можно сомневаться, что Канцона I из «Cor Ardens» II, почти вся «Нежная тайна», поздние сонеты, «Человек», особенно вторая его половина, и «Римский дневник» — сегодня гораздо более существенны, чем «Прозрачность» или «Arcana», «Эрос» и «Золотые завесы» из «Сог Ardens» I.
159
«Die Kunst konstniieren heisst, ihre Stellung im Universum bestimmen. Die Bestimmung dieser Stelle ist die einzige Erklarung, die es von ihr gibt» (Schelling 1859, S. 373; Hablutzel 1954).
160
«Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении […]. Он многолик, многосмысленен и всегда темен в последней глубине» (I, 713).
161
Кроме того, такая диаграмма потребовала бы для своего обоснования и разъяснения не статьи, но объемистой книги.
162
См. примеч. 2.
163
Тынянов 1965, с. 278—279.
164
Блок 1960, т. 1, с. 22.
165
Ср.: Максимов 1972, с. 25—121.
166
Там же, с. 48.
167
Письмо Брюсову от 3 июня 1906 года (Брюсов 1976, с. 492).
168
В известном письме Андрею Белому от 6 июня 1911 года.
169
I, 242.
170
III, 539.
171
III, 544.
172
Блок 1960, т. 3, с. 249. Ср. места из писем: «…знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой…» (К. С. Станиславскому, 9 декабря 1908 г.; там же, т. 8, с. 265); «…идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссейному пути…» (матери, 28 апреля 1908 г.; с. 239).
173
Не вспоминались ли ему слова св. Бернарда: «Ubicumque fueris, tuus esto; noli te tradere?» («Где бы ты ни был, принадлежи себе; не предавай себя»).
174
Блок 1960, т. 3, с. 286.
175
Там же, т. 5, с. 286.
176
Т. 2, с. 84:
…И не постигнешь синего ока, Пока не станешь сам как стезя…
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь…
(А. Блок. «Вот он— Христос— в цепях и розах…», 1905)
177
Ученость Вячеслава Иванова была основательнее, чем у кого–либо из символистов. Он не мог себе позволить по случайности перепутать герметику с герменевтикой, как Блок (в статье 1905 года «Творчество Вячеслава Иванова»; т. 5, с. 8), или зачислить французского философа XVII века Гассенди в ряды средневековых арабских ученых, как Андрей Белый (Белый 1922, с. 157), или непроизвольно подставить на место латинского lugere («плакать») немецкое liigen («лгать»), как гордый своей гимназической латынью Валерий Брюсов (свидетельство С. В. Шервинского).
178
III, 234.
179
Белый 1921, с. 6.
180
Там же с. 53.
181
Ср.: Филимонов 1874—1876; Лебединцев 1884 и др.
182
Заметим, что Владимир Соловьев, проявлявший к Сведенборгу известный интерес (но к какому же мыслителю он не проявлял интереса или хотя бы любопытства?), довольно резко порицал шведского мистика за «ум сухой и трезвый, с формально–рассудочными приемами мышления» и «грубо–рационалистическую полемику», за отсутствие философской культуры (Соловьев 1907, с. 242). Он явно не признал бы Сведенборга за воплощение своей Софии! К Андрею Белому эти факты не имеют никакого отношения: для него реален и конкретен не образ Софии и не образ Сведенборга, но чисто приватный «миф» о Надежде Львовне Зариной — точнее, свой поздний «миф» об этом юношеском «мифе» («…Бреду перед собой самим…»). На этот произвол совершенно непохожа символика «Повести о Светомире Царевиче», где даже самые интимные автобиографические реалии (Георгиевский переулок и церковь св. Георгия, — место рождения и крещения поэта, превращенные в «урочище Бгорьево» и «Егорьев ключ»; Волков переулок, перекрещивающийся с Георгиевским, — стаи волков перед «Егорьем»; возвращение умершей возлюбленной Гориславы в ее дочери Отраде — как Лидия Дмитриевна «вернулась» в Вере) включены в строго дисциплинированную систему и перестроены с ориентацией на объективные данности сверх личной традиции — национально–русской, эллинско–византийской и общечеловеческой. Сверх личное для Вячеслава Иванова принципиально реальнее, чем личное, только личное; в статье 1908 года «Две стихии в современном символизме» он убежденно противопоставлял «объективную правду» — «субъективной свободе» (II, 546) и требовал «самоограничения и отречения от ego ради res» (II, 547).
183
Брюсов 1976, с. 470—471. Стоит напомнить, что современники подчеркивают в Эрне, православном по вероисповеданию, физиогномические и психологические черты протестантского сектантства. А. В. Карташев писал о нем: «Высокий, с бледным, безбородым, никогда не улыбающимся лицом, в обычном для того времени черном сюртуке, он казался протестантским пастором какой–то морализующей секты, являя собою пример протестантского пафоса в православии» (Карташев 1951 у с. 48). Вот какова конкретность коннотаций даже в столь шуточном и беглом упоминании имени Сведенборга у Вячеслава Иванова.
184
II, 266.
185
III, 238.
186
Рецензия на «Прозрачность» — т. 5, с. 538.
187
Мир как явление Воли — такая формула сама по себе заставляет, конечно, вспомнить философский язык Шопенгауэра, и было бы нереалистичным утверждать, что Вячеслав Иванов совсем не думал о немецком метафизике. Однако дело обстоит не так просто. Во–первых, мотив этот имеет соответствия у мыслителей более древних, чем Шопенгауэр, например у Плотина. Во–вторых, что важнее, в контексте поэзии Вячеслава Иванова он появляется весьма часто и подвергается интерпретации в этически–христианском духе, близком некоторым православным аскетическим авторам; мне, именно мне мир предстает как ложь, «сон» и «морок», не будучи (в отличие от «майя» буддистов) таковым по своей сути:
…И нежный рай, земле присущий,
Марой покрылся, в смерть бегущей —
(«Июнь», сб. «Римский дневник»; III, 616)
и это действие моей искривленной воли, моя вина:
…Уже давно не дорог
Очам узор, хитро заткавший тьму.
Что ткач был я, в последний срок пойму;
Судье: «Ты прав», — скажу без оговорок.
(«Deprofiindis amavi», сб. «Свет вечерний»; III, 574).
188
Поставить рядом и связать рифмой однокорневые слова «явленье» и «богоявленье» значит для Вячеслава Иванова выявить и их философский контраст («богоявленье» как трансцензус «явленья»). Подобная рифмовка стоит в одном ряду с характерной для поэта, но вообще необычной где–либо, кроме шуточной поэзии, каламбурной рифмовкой омонимов: «лик» — «собрание, хор, клир» и «лик» — «лицо» («Милость мира», сб. «Кормчие звезды»; I, 556); «mundi» — «мира» и «mundi» — «чистые» (латинское вступление к сб. «Cor Ardens»; И, 395); «трусу» — «землетрясению» и «трусу» — «робкому человеку» («Налет подобный трусу…» — «Римский дневник», март; III, 598). Она имеет ближайшие параллели в средневековой поэзии, где каламбурные рифмы употребляются в самом серьезном сакральном контексте. Конфронтация однокорневых слов служит у Вячеслава Иванова той же цели реактуализации этимологической сердцевины слова, которой она служила у Платона (см.: Аверинцев 1979, с. 41—81).
189
Конечно, эта концепция человечества как личности не может быть оторвана ни от идей Владимира Соловьева, ни от течения христианского персонализма в философии XX века. Следует отметить, однако, что у нее есть параллели в древней мистике, особенно учение византийского богослова Максима Исповедника (ум. в 662) о «плероме душ» как некоем множественном единстве и сверх личной личности.
190
«Поэтика» 4, 48Ь 12.
191
Это очень хорошо видно на примере двух строк из «Человека» (III, 218):
…Не до плота реки предельной,
Где за обол отдашь милоть…
(«Когда в сияющее лоно…»)
Читатель обязан, во–первых, охватить одним взглядом образ миров, разделенных загробной рекой, который принадлежит к устойчивым мотивам поэзии Иванова и дан, например, в одном раннем стихотворении (I, 568):
…Беззвучно плещущими
Летами Бог разградил свои миры…
(«Вечные дары», сб. «Кормчие звезды»)
Во–вторых, его воображение отослано к античному символу обола как платы Харону за переезд через эту реку. В–третьих, еще одна линия ведет к библейской символике «милоти» — слово, которым, между прочим, обозначается мантия пророка Илии, отданная им Елисею у Иордана при расставании с этим миром. Все три символических аспекта даны с характерной сжатостью.
192
Пожалуй, наряду с Ивановым полное отсутствие тотальной иронии (описанной, между прочим, в страшной статье Блока «Ирония» 1908 года) можно отметить только у Бальмонта. Некоторая черта цельности в восхвалении бытия соединяет двух поэтов (ср. слова Иванова Бальмонту: «Мы с тобой славословы», — приводимые в статье О. Дешарт, I, 74). Но у Бальмонта она, во–первых, окупается простоватостью, если не глуповатостью, общей установки; во–вторых, обесценивается принципиальным отрицанием всякого связного смысла («Только мимолетности я влагаю в стих…»).
193
Это никоим образом не означает, будто у Вячеслава Иванова отсутствует юмор. Ирония и юмор — скорее противоположности: ирония — гордыня, юмор — смирение. Тихий, «стариковский» юмор приходит к поэту вместе со смирением:
К неофитам у порога
Я вещал за мистагога.
Покаянья плод творю:
Просторечьем говорю.
Да и что сказать–то? Много ль?
Перестал гуторить Гоголь,
Покаянья плод творя.
Я же каюсь, гуторя, —
Из Гомерова ли сада
Взять сравненье? — как цикада.
Он цикадам» (сам таков!)
Уподобил стариков…
(«Римский дневник», февраль; III, 593)
194
Судьба и весть Осипа Мандельштама // Осип Манделыпатм. Сочинения в 2–х томах, т. 1. М., 1990, с. 5—64.
195
Как известно, в поэтическом манифесте Верлена описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «Все прочее — литература» (пастернаковский перевод, в случае этой строки точный до буквальности).
196
Далеко не полный перечень важнейших работ о Мандельштаме, постоянно используемых или служащих предметом подразумеваемого спора на протяжении статьи: Brown 1973; Тоддес 1974; Taranovsky 1976; Ronen 1979; Dutlli 1985; Freidin 1987; Струве 1988.
197
См.: Мандельштам 1978; Ахматова 1988; Кузин 1987; Штемпель 1987.
198
Герштейн 1986.
199
В отброшенном варианте поэтического портрета Ахматовой («Вполоборота, о печаль…») Федра была названа «отравительницей»; это нормальный для поэтики Мандельштама способ соединять данные традицией сюжеты в единый метасюжет (см. ниже о стихотворении «Домби и сын»).
200
Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до 20–х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне — постромантик, Мандельштам — постсимволист).
201
И, конечно, Чаадаева, Герцена, Леонтьева и Розанова — но те «абстрактным бытием» не занимались.
202
Гаспаров 1970, с. 5—37.
203
Конечно, у Ахматовой чувственная пластика и бытовая деталь действительно имеют первостепенную важность. Но у нее, как и у раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной декорации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие лирическое «я». Оно оттеняется вещью, а не сливается с ней, как у Пастернака.
204
Вспомним слова В. Пяста о Вяч. Иванове, проясняющие проблему, немаловажную и для понимания Мандельштама. «Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как–то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, — вначале обойтись не может. Скажет Пушкин: «Я помню чудное мгновенье», — и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это мгновение обстановки; но никому и в голову не придет спросить себя, где это происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас неважно, но потому, что где–то между строчек эта обстановка вошла в это стихотворение… Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова… Стихи этой книги «видны насквозь»… в них самих нет заграждающего зрение заднего фона» (Гофман ред. 1909, с. 265—266).
205
Например, сознанию Н. Я. Мандельштам свойственно видеть в особенно черных красках Вяч. Иванова. Благодаря этому в ее интерпретации исчезает то здоровое и естественное соединение притяжения и отталкивания, которое испытывал к старшему поэту Мандельштам.
206
Мы сознательно обходим вопрос о Гумилеве. Живущий в его поэзии идеал непрерывного героического самопроявления, недаром так импонировавший романтикам 20–х годов вроде Н. Тихонова или Багрицкого, по своей сути утопичен, как бы ни оправдывала его гумилевская биография. Ср. у Н. Я. Мандельштам: «Акмеисты отказались от культа поэта и «дерзающего человека», которому «все позволено», хотя «сильный человек»Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру».
207
См.: Ходасевич 1939.
208
Вспомним, что Цветаева рисует бытие Андрея Белого или Волошина без малейшего чувства дистанции, включаясь в их игру, «подыгрывая» им, доводя до конца от них исходящую стилизацию реальности. Пастернак с некоторым преувеличением, но не без основания утверждал, что «ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли быть… символисты» («Люди и положения»).
209
Ср. запись С. Б. Рудакова от 1 июля 1935 года (Мандельштам о Гумилеве): «Я говорил ему, поменьше Бога в стихах трогай (то же у Ахматовой: «Господь», а потом китайская садовая беседка)» (Герштейн. Указ. соч., с. 243). Общеакмеистский упрек символизму здесь переадресован самим акмеистам — даже их строгость недостаточна.
210
Вспомним, что именно с идеей единства Мандельштам связывает в «Шуме времени» свое отроческое переживание марксизма. Вспомним также, с какой остротой поставлен вопрос о единстве русской литературы в статье 1922 года «О природе слова», с каким сочувствием в этой же статье сказано о попытке Бергсона «спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений». Принцип единства противостоит для Мандельштама аморфному эволюционизму, подменяющему связь времен «дурной бесконечностью» прогресса.
211
Это решение — не такое уж само собой разумеющееся: начало века в России — время бурного развития еврейской литературы, как на иврите (которому Мандельштам отказался учиться в отрочестве) и на идише, так, отчасти, и на русском языке. С сионистских тем начинал юный С. Маршак, мандельштамовский сверстник.
212
Нечто подобное мы встретим в «Оде Сталину» 1937 года, о чем ниже. Ода тоже основана на принципе каталога. Разница, конечно, в том, что никакая внешняя сила не принуждала Мандельштама писать стихотворение 1914 года, и корысти ему тоже не было никакой. Интересно, однако, что некоторая возможность опытов в таком роде возникает из самой поэтики Мандельштама (чуть ли не из родовой памяти поэзии как таковой, издревле служившей этикетному славословию), — хотя бы на периферии этой поэтики, да еще так, что все немедленно оказывается оспорено и взято назад самим поэтом.
213
В «Оде Сталину» ту же функцию ухода от простой утвердительной формы выполняет вводимое с первой же строки сослагательное наклонение.
214
Позднее цитата будет комически подчеркнута: «У ворот Ерусалима // Хомякова борода».
215
«Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных //Я убежал к нереидам на Черное море…» Вехи пути: Харьков и Киев, где он встретил будущую спутницу своей жизни Н. Я. Хазину, Коктебель, где он не ужился с Волошиным, и Феодосия, где он был арестован врангелевской контрразведкой и спасен стараниями полковника Цыгальского — того самого, с которым связан образ увечного двуглавого орла в «Шуме времени», — а также Волошина и Вересаева; Батуми, где он был еще раз арестован береговой охраной меньшевистского правительства и освобожден по милости просвещенного жандарма; наконец, Тифлис.
216
Это неоднократно и едва ли удачно описывали как приближение к футуризму (впрочем, контакты Мандельштама с группой «Гилея» — факт, который необходимо учитывать). Поэтика Мандельштама — понятие более конкретное и потому более ясное, чем «акмеизм вообще» или «футуризм вообще». Футуристов Хлебникова и Маяковского поэт уважал — как, впрочем, и неоклассика Ходасевича.
217
Древний Египет — для Мандельштама всегда образ несвободы, одновременно жестокой и чиновничьи–самодовольной («Бессмертны высокопоставленные лица»), а потому конца истории как пространства для выбора. Здесь отчасти играли роль библейские коннотации «Египта, дома рабства». В 1931 году поэт говорил отцу Э. Г. Герштейн о Сталине: «…десятник, который заставлял в Египте работать евреев» (ср. библейский рассказ о том, как Моисей «увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его» — Исход 2, 11).
218
Домашнее название стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…»
219
См.: Мандельштам 1973а, с. 52.
220
Поэзия Клеменса Брентано // Клеменс Брентано. Избранное / Сост. С. С. Аверинцев. На нем. яз. М., 1985, с. 5—37.
221
Избранная проза немецких романтиков…, т. 2, с. 418.
222
Там же, с. 417.
223
Цитаты из Брентано даны в прозаическом переводе, принадлежащем автору книги.
224
Молодой Брентано позволяет в романе «Годви» одной из героинь не без сочувствия автора развивать — за сто лет до Фрейда и Розанова — соображения о тождестве религии и чувственности, о молитве как выражении плотского темперамента и т. п. (Brentano 1963, S. 412—413). Впоследствии такие темы станут для Брентано побуждением к мучительным тревогам совести: смешение чувственного и духовного будет осознано как то, что может быть, но чего быть не должно, и как личная опасность поэта, если не лирики как таковой.
225
Brentano 1906, S. V.
226
Staiger 1939, S. 40.
227
Пастернак 1982, с. 382.
228
Письмо, датируемое осенью 1801 года, приведено по изданию: Brentano 1906, S. VIII.
229
Письмо к Софии Меро от 9. IX.1803: Brentano 1908, S. 146.
230
Ср.: Жирмунский 1919.
231
Brentano 1970, S. 39.
232
Семь последних словес — слова Иисуса Христа на кресте, слагающиеся по всем четырем Евангелиям в семь изречений.
233
Gorres 1844, S. 25—26.
234
Emensberger 1971, S. 9—13.
235
Тютчев 1965, с. 118.
236
Brentano 1951, S. 376.
237
Dickinson 1959, р. 75.
238
Цветаева 1980, т. 1, с. 245.
239
Письмо художнику Филиппу Отто Рунге от 21 января 1810 года выстраивает такой ряд любимых литературных произведений: рыцарский эпос о Тристане и Изольде, «Фьяметта» Боккаччо, «Стойкий принц» Кальдерона — «и несколько од сошедшего с ума вюртембергского поэта Гёльдерлина».
240
Ср.: Enzensberger. Op. cit., S. 96—98.
241
Brentano 1855, S. 144 (письмо Ф. О. Рунге). Речи демона Молеса в «Романсах о Розарии», пародирующие прежде всего Якоба Бёме, косвенно выражают недоверие Брентано к философии Шеллинга с ее гностическими тенденциями.
242
Brentano 1909, S. 90.
243
Мандельштам 1973а, с. 75.
244
Ср.: Соссюр 1977, с. 639—649. Там же статья Вяч. Вс. Иванова (Иванов 1977, с. 635—638).
245
Kemp 1958, S. 198.
246
Обе последние цитаты, отличающиеся в оригинале исключительным преизобилием внутренних рифм, рифмоидов, ассонансов и аллитераций, взяты из немецкого гимнографа XIV века Германа Иосифа, писавшего по–латыни (Dreves ed. 1907, p. 544, 542).
247
В оригинале — непереводимая игра слов, помноженная на игру созвучий и превращающая две строки в подобие присказки.
248
«Отказ от изысканных слов» отмечает для Брентано Энценсбергер (Enzensberger. Op. cit., S. 100). Характерно отсутствие романтических неологизмов, вроде изобретенного Тиком «Waldeinsamkeit», эйхендорфовского «Abendgold» и т. п.
249
Впрочем, предметом культа Брентано не стал ни для одного из модных литературных течений XX века (как великий Гёльдерлин, величие которого не умаляется попытками его эксплуатировать, был кумиром для умников из кружка Стефана Георге, озабоченных составлением нового канона, а позднее — для экспрессионистов, подыскивавших себе родословную).
250
Enzensberger. Op. cit., S. 109 u. Anm. 173—174.
251
Гилберт Кит Честертон, или Неожиданность здравомыслия // Г. К. Честертон. Писатель в газете: художественная публицистика. М., 1984, с. 329—342.
252
Герман Гессе // Герман Гессе. Избранное / Сост. и послесл. С. С. Аверинцев. На нем. яз. М., Прогресс, 1981, с. 366—388
253
Большинство стихотворных цитат дано в прозаическом переводе. В том случае, когда в наличии стихотворный перевод, достаточно точно воспроизводящий необходимые по контексту смысловые моменты подлинника, дается он. Все прозаические и стихотворные переводы принадлежат автору книги.
254
Вспомним отголосок того же времени на рубеже двух веков — эпиграмматическую характеристику собственных юных порывов, вышедшую из–под пера Андрея Белого:
Но, тексты чтя Упанишад,
Хочу восстать Анупадакой,
Глаза таращу на закат
И плачу над больной собакой…
255
Выяснению этого посвящен центральный труд известного голландского историка и философа Йохана Хейзинги «Homo Ludens» (порусски «Человек Играющий»); отметим, что книга эта легла на рабочий стол Гессе под конец работы над «Игрой в бисер», в 1940 году.
256
В стихотворении из раздела «Бог, душа и мир»:
Ich wandle auf weiter bunter Flur
Ursprunglicher Natur,
Ein holder Born, in welchem ich bade,
Ist Oberlieferung, ist Gnade.
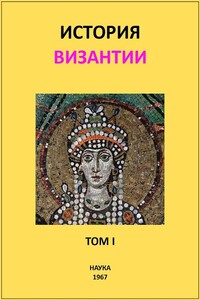
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.
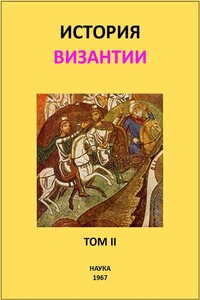
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.