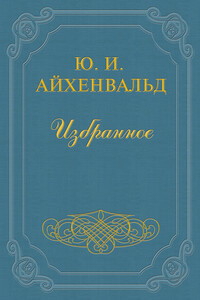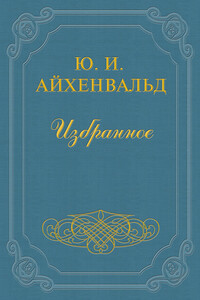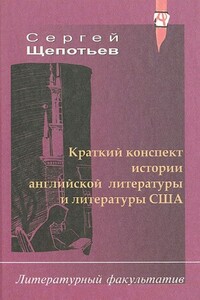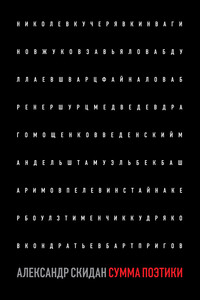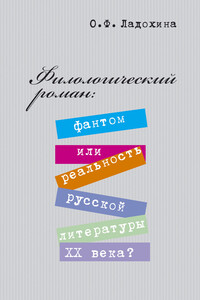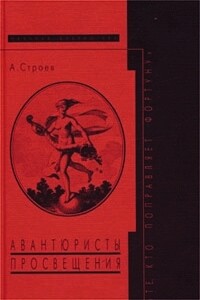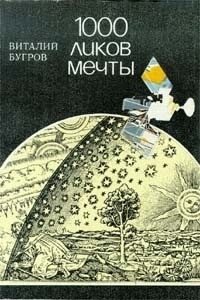Есть люди, которые по мере взросления утрачивают детскую потребность самозабвенно таращиться на картинки.
У других это иначе.
Давным–давно, уже почти четверть века тому назад, я трудился над переводом стихов Германа Гессе из его романа «Игра в бисер». Это была работа новичка. И что же я поспешил всеми правдами и неправдами раздобыть из библиотеки на дом, чтобы по–домашнему обживать? Ну, понятно, томики других сочинений Гессе (я полагал тогда, как полагаю и теперь, что для того, чтобы перевести хотя бы одно стихотворение, желательно знать все написанное автором в полном объеме, как «большой контекст» для каждого слова, — впрочем, это другой сюжет). Но мне казалось невозможным обойтись и без объемистого альбома, составленного биографом Гессе Бернгардом Целлером, где можно найти множество разнообразных фотографий писателя — в молодости и в старости, на людях и наедине с собой. Подолгу всматривался я в эти портреты, силясь представить себе ритм и темп движений, манеру взглядывать на собеседника, позу тела, откидывавшегося в смехе, — чтобы перенести это внутрь своей переводческой работы, в ее глубину, на самое ее дно. Чтобы войти в игру, настроиться.
Опыты о старых и новых поэтах, составляющие эту книгу, написаны в разное время и в жанровом отношении не вполне однородны. Если я счел возможным соединить их вместе, то меня побудила к тому присущая им общая черта — установка на портретность.
Порой это портретность в буквальном смысле. Начало статьи о Гессе, например, — выжимка впечатлений от того самого альбома да еще от появившейся у меня позднее пластинки, где Гессе сам читает свою прозу и стихи; это крайний случай — что называется, обнажение приема. В других случаях портретность запрятана чуть поглубже. Где–то на заднем плане мелькает тема телесных физиогномических примет, например по отношению к Клеменсу Брентано; было бы превыше моих сил воздержаться от ссылки на житийное предание касательно того, как выглядел и как вел себя преподобный Ефрем Сирин. Но вот статья о переводах Жуковского вроде бы никаких «словесных портретов» не содержит; портретна она лишь постольку, поскольку ее предмет — отмеченное еще Гоголем атмосферическое присутствие личности и судьбы Василия Андреевича, парадоксально усиленное тем обстоятельством, что прослеживается оно не где–нибудь, а при воссоздании образчиков чужой музы, по преимуществу — британской и германской: интимное «воспитание чувств» — через объективированный «местный колорит». В контексте такой задачи можно разбирать лексические оттенки или грамматические отношения слов в оригинале и в переводе, но при этом предполагается как необходимый компонент или хотя бы смысловой фон некое представление о внутреннем опыте Жуковского, вновь и вновь оживляемое в «памяти сердца» — и автора статьи, и ее читателя.
Иначе говоря, портретность состоит в том, что слово в статье, не переставая быть словом дискурсивным, одновременно служит чем–то вроде мазка, помогающего вылепить облик. Желательно, чтобы оно не лгало не только по своему логическому смыслу, но и в своей «суггестивности». Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии — хотя бы потому, что у меня ни в одной интонации нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних. От природы мне свойственно скорее уж оспаривать себя, и читатель, я надеюсь, ощутит это. Каждая «картинка», на манер мозаики выкладываемая мною из слов, — только подступ к предмету, только догадка, стоящая под вопросом; и я стараюсь никогда не забывать о том, что любое поползновение употреблять метафоры, сравнения и эпитеты в функции доказательных аргументов погрешает против элементарной умственной честности. Но для того, чтобы поддерживать у себя и у читателя «память сердца», не перестающую воздавать должное тому факту, вообще говоря, объективному, что помимо предмета есть еще и атмосфера вокруг предмета, квалифицирующая его как предмет гуманитарный, — мне приходится дать словам право не только называть вещи, как то полагается в научной прозе, но и внушать. Сам знаю, что это право весьма опасное, и стараюсь вводить пользование им в определенные рамки. Аристотель, давший на все времена замечательный образец здравомыслия, рассуждает в своей «Риторике» примерно так: если бы человеческая природа включала в себя лишь разум, без эмоций, без воображения, можно было бы обойтись силлогизмами; поскольку, однако, дело обстоит совсем иначе, нам остается прилагать усилия к просветлению эмоционально–имагинативной сферы, к приведению ее в возможную для нее степень адекватности…
Это не значит, что в мои намерения входило писать, что называется, о «моем» Жуковском, или о «моем» Брентано, или, хуже того, «моем» Ефреме Сирине.
Мне хотелось не столько сделать их «моими», сколько самому сделать себя — «их», чтобы подобное, по старой максиме, познавалось подобным; чтобы они сами были не только для моего рассудка, но и для моей эмоции интереснее, чем эмоция как таковая — для самой себя. Моей целью было — ввести мою субъективность в процесс познания, но с тем чтобы она в этом процессе «умерла». Не мне судить о том, когда мне это хотя бы отчасти удавалось, а когда решительно не удавалось.