Поэты - [7]
Можно и часто необходимо во имя долга отказаться от счастья: так поступает Эней в IV книге, по приказанию богов покидая любимую женщину и приятные стены Карфагена, и так поступает «Юноша Честь» (Jeune Homme Honneur), с его «вергилианским сердцем», в катренах Пеги. От чего нельзя отказаться, так это от надежды. Храбрость Ниса и Эвриала, вызывающихся идти в опасный путь, важна как подтверждение надежды на будущность рода:
Молвил на это Алет, поседелый и опытом зрелый: «Отчие боги, всегда в вашей воле судьба Илиона! Но до конца погубить вы тевкров род не хотите, Если с такою душой, с таким бестрепетным сердцем Юноши есть среди нас!»
(Кн. IX, 246—250, пер. С Ошерова)
И две из мистерий Шарля Пеги о Жанне д'Арк начинаются грандиозными монологами о надежде, без которой все святыни превратились бы в кладбища, о побеге, зеленом и хрупком, в котором сосредоточена вся сила жизни будущего дуба.
Но так же, как от надежды, нельзя отказаться от верности «отеческому», от благоговения — энеевской pietas. Друг другу противостоят не прошлое как таковое и будущее как таковое, но счастье сегодняшнего дня, своеволие индивида — и связь времен, окупаемая жертвой и стоящая на жертве. Так было для Вергилия, и так было для Пеги. Два человека, жившие в очень непохожие времена, — римлянин I века до н. э., язычник, современник Августа, и француз XX века, парадоксально совместивший республиканские, дрейфусарские, социалистические убеждения, побуждавшие его волноваться всеми страстями века, с католической верой, — в этом пункте действительно одних мыслей. Духовный мир Вергилия понятен Пеги с полуслова и накоротке, без всякого искусственного «вживания» или умственной натуги. Он не «вживается» в это, он этим живет. Какой эстетизированной и декоративной, или археологической, или теоретической и «высоколобой» предстает античность поэтов парнасской школы, или Анатоля Франса, или Поля Валери рядом с античностью Пеги: тут все реально до грубости и одновременно свято, то есть предъявляет человеку властные, жесткие требования — форум, и гражданство, и боги домашнего очага, и сам этот очаг, отнюдь не метафорический, и пламя очага, символ той верности и той надежды, ради которых стоит мучиться и стоит умереть.
Конечно, приведенные нами строки Пеги рискуют быть оценены современным вкусом определенного типа как невыносимая моралистическая риторика; но ведь эту опасность они до конца разделяют с поэзией Вергилия, по крайней мере с теми ее аспектами, которые были для самого Вергилия самыми важными (есть способ читать «Энеиду», для которого существует страсть Дидоны, но не существует призвания Энея). Положение Пеги нелегко: «бедная честь», да еще честь «отеческих домов» — разве современный вкус может это вынести? Какая сентиментальность, какая высокопарность! Чеканная латинская формула о пути к звездам, открывающемся перед юной доблестью Аскания, логически должна подпасть тому же приговору. Ну что же, сентиментальность так сентиментальность, риторика так риторика. Ясно видно: Пеги был бы счастлив оказаться смешным в обществе своего Вергилия — таким же старомодным, как Вергилий, таким же высокопарным, бестактным, не попадающим в тон, как Вергилий. (Да простится автору этой статьи ненаучное замечание чересчур личного характера, но он тоже почел бы за честь, совершенно незаслуженную, но тем более желанную, на мгновение как бы оказаться в компании того и другого, подвергнувшись тем же нареканиям…) Возможно, что современный вкус — «ироничность», «раскованность» и прочая, и прочая — доведет свое торжество до того, что во всем свете не сыщется больше мальчика, мальчика по годам или вечного мальчика, чье сердце расширялось бы от больших слов Вергилия и Пеги. Об этом страшно подумать. Если это случится, нечто будет утеряно навсегда.
Конечно, с недоверием к большим словам, большому словесному жесту, к звенящему голосу, дело обстоит не так просто. У него есть свои основания: большие слова легко использовать для лжи. Восприятие наследия Вергилия в последние два столетия в определенной мере стоит в тени вопроса о Вергилии как «певце Августа», «певце империи». Для господствующего умонастроения XIX столетия, сформированного, во–первых, романтическим и позитивистско–натуралистическим влечением к необработанному, неприкрашенному, спонтанному или казавшемуся таковым и отвращением к праздничной прибранности и учтивой церемонности нормативной поэтики, во–вторых, либеральным негодованием против цезаризма, монархии и всех подобных вещей, — для этого образа мыслей поэзия Вергилия, и без того одиозная как «искусственный» и «подражательный» эпос, как прообраз постылого классицизма, как торжество дисциплины над стихией, была вдвойне и втройне одиозна, как поэзия «придворная» и «льстивая», чуть ли не «заказная» и «казенная». Таковы были чувства многих: «Вергилий казался им певцом рождающейся Римской империи — если не наемным, а искренним, то тем хуже для него»

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
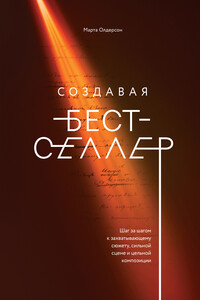
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.
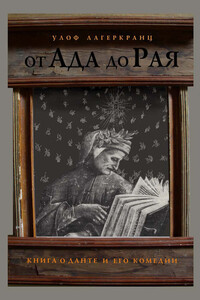
Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.