Поэты - [21]
Особый интерес представляет образность шестой строфы:
Оторвала сынов от объятий своих и сама отдала их во огнь; умножала огнь и вдувала дух, да претворится плотское их естество в естество ангелов — во огнь и дух.
Наконец–то выявляется уподобление вещественного огня, жегшего мучеников, и невещественного «огня», горевшего в мучениках. Впрочем, и здесь никак не указано на аллегорический характер образа огня в применении к ревности о вере; напротив, огонь и «огонь» попросту приравнены друг другу и о них говорится как об одной и той же вещи. Какой из них «умножала» мать мучеников? Конечно, невещественный; но в принципе можно понять и так, что она, повторяя подвиг Авраама, разжегшего костер для принесения в жертву Исаака, в порыве рвения помогала мучителям разжечь вещественный огонь, тем более что следующие за этим слова «вдувала дух» подсказывают образ дующего рта. «Дух» — наряду с «огнем» второе ключевое слово строфы; но необходимо знать, что по–сирийски оно минимально «спиритуалистично». Разумеется, и в других языках семантика «духа» обычно связана с семантикой «дыхания», а также «ветра»[92]; однако греческое слово πνεΰμα, к христианским временам уже имевшее за собой многовековую историю функционирования в философском языке стоиков, было в большой мере резервировано для более или менее специального теологического употребления[93], и даже латинское spiritus отчасти ослабляет связь со своим бытовым, материальным значением. «Ветер» — по–гречески άνεμος, по–латыни ventus; «дыхание» — по–гречески άναπνοή, по–латыни spiramen или spiratus (также flatus — «дуновение», anhelitus — «тяжелое дыхание» и т. п.); благодаря таким однокорневым или инокорневым лексическим «дублерам» слова πνεΰμα и spiritus высвобождаются для «духовного» значения — если далеко не исключительно, то все же преимущественно. Совсем иначе обстоит дело с сирийским riiha — и соответствующим ему древнееврейским гйа/ι. Это самые обычные, употребительные, центральные слова для понятия «ветер»[94] (откуда, между прочим, развивается значение «страна света», поскольку для древнего сознания страны света вообще предстают как «четыре ветра» — ср. Апокалипсис, 7, 1). Семантика «ветра» не обнаруживает ни в сирийском, ни в древнееврейском[95] слове ни малейшей тенденции к отмиранию или хотя бы к отступанию на задний план под натиском «духовного» значения. Столь же обычны эти слова для понятий «дыхание», «дуновение». Но «дух» и специально «Святой Дух» (для древнееврейского языка — в иудаистическом смысле, для сирийского языка — в христианском смысле, то есть как третья ипостась Троицы) обозначаются этими же словами (евр. гйаЬ ha–qodes, сир. гйМ dqudsa), причем в структуре лексики нет даже намека на дистанцию между бытовым и теологическим обиходом. За–этими языковыми особенностями стоит то свойство библейского мировоззрения, которое лишь сугубо неточно и условно можно было бы назвать мистическим «материализмом» и которое на деле сводится к снятию границы между телесным и бестелесным в «таинстве». В евангельском описании встречи воскресшего Христа с апостолами есть такой сакраментальный момент: «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» (Евангелие от Иоанна, 20, 22). Совершенно так, как вода крещения и хлеб евхаристии, по христианской доктрине, будучи материальными, тождественны сверхчувственной реальности — не просто означают ее, но именно тождественны ей, — физическое дуновение (гйЬа) Христа тождественно сообщаемой духовной харизме (riiha). Заметим на будущее, что в определенном отношении понятие «таинства» сопоставимо с понятием «аллегории» (поскольку и то и другое представляет собой некоторый модус сопряжения «невидимого» смысла и «видимой» вещественности). Сирийское слово ra'zanaja, означающее «сакраментальный, относящийся к таинству», специалисты нередко переводят по контексту «аллегорически»[96]. Другой вопрос, оправдан ли такой перевод в конечном счете. Ибо понятия «таинства» и «аллегории» сопоставимы ровно настолько, чтобы по сути своей быть противоположными. «Таинство» — потому и «таинство», что это не «аллегория», то есть не ино–сказание: не дистанция и зазор между вещью и смыслом, но их непостижимое тождество.
Поэтика «таинства» требует образов, прямо–таки шокирующих своей конкретностью, густой вещественностью (хотя при этом не слишком «пластичных», то есть наглядных, — можно быть внутри «таинства», но нельзя разглядывать его со стороны, на расстоянии). Мы только что видели мать мучеников «вдувающей дух» в своих сыновей, словно бы дующей на них из своего рта. В другом гимне мы видим самого Ефрема с раскрытым ртом — отверзание уст для принятия евхаристии оказывается одновременно отверзанием «ума» для принятия инспирации:
Господи, написано в Книге Твоей: «открой уста твои, Я наполню их»[97]. Вот, Господи, уста раба Твоего и ум ею — открыты к Тебе! Господи, наполни их полнотою дара Твоего, чтобы я воспел Тебе хвалу в согласии с волей Твоей.[98]
Слово «дар» (по–сирийски mawhabta) здесь совершенно наравне означает вещественные евхаристические субстанции — и невещественный дар «разумения»: наполняются уста, и так же конкретно, как бы телесно, наполняется ум.

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
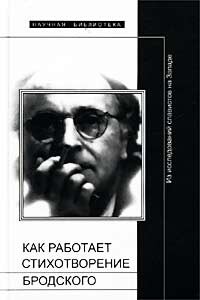
Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
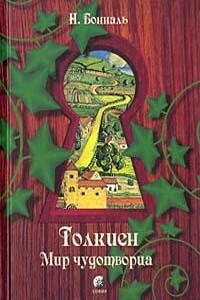
Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.