Поэтика и семиотика русской литературы - [81]
Таким образом, несмотря на уверенность многих современников в том, что Тютчев наслаждался жизнью, ценя настоящее, именно оно в системе представленных выше соотношений минимизируется, и если можно говорить о его высокой значимости для поэта, то единственно в плане ценности ускользающего. Непосредственность переживания сиюминутного вообще, думается, не самая характерная черта лирики Тютчева. Лирическое чувство в любом из временных измерений обретает у него признаки отстраненности, выраженной порой с такой силой, какая проявится в русской поэзии лишь много позже. В этом отношении показательно уникальное для своего времени стихотворение «Бессонница» и особенно его четвертая строфа:
Именно неизбывная отстраненность приводит художника к ощущению если не всеобщей, то многое пронизывающей призрачности. В лекциях тютчевского спецкурса Ю. М. Лотман очень точно заметил, что поэт не ощущал себя живым на 100 %. Знаменательно в этом отношении выражение «как бы живой», отнесенное Тютчевым к себе («Опять стою я над Невой…»). Еще более показательно отодвинутое во времени вперед, в неопределенное будущее, но ощущаемое в настоящем, восприятие себя по аналогии со сценой из Гамлета в виде черепа когда-то знакомого человека, по сути, себя самого, но уже для себя и для всех чужого: «Я вижу, дочь моя, что мое бедное изображение навеяло на тебя грусть и меланхолию, и я невольно подумал о впечатлении, произведенном на Гамлета видом некоего черепа, когда-то хорошо знакомого ему и любимого им… Alas, poor Yorick. Именно так, дочь моя. Читая твое милое письмо, я почти готов был растрогаться над самим собой, но на это у меня недостает душевных сил… Вот что значит окончательно пережить себя…» (письмо Д. Ф. Тютчевой от 13/25 мая 1868 года)[281].
С учетом этого ракурса, думается, следует воспринимать стихотворение «Душа моя Элизиум теней…», а через него такие стихотворения, как «Из края в край, из града в град…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Есть и в моем страдальческом застое…» и многие другие, где тени и призраки, живущие в душе поэта, призываются им, на миг оплотняясь в воспоминаниях, коими поэт тяготится, не в силах, в то же время, отказаться от них.
Воспоминание у Тютчева есть своего рода темпоральная лига на нотах бытия, указывающая на нечленимость времени в триаде прошлое-настоящее-будущее, благодаря чему, скажем, в стихотворении «Я помню время золотое…» уже виртуально присутствует написанное через тридцать с лишним лет стихотворение «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), поскольку пролетающая тень жизни («И сладко жизни быстротечной // Над нами пролетала тень») несет в себе обе названные точки бытия[282].
Следовательно, в лирике Тютчева воспоминание двунаправленно, обращено и в прошлое, и в будущее, которые равно, если говорить о пределах личной жизни поэта, населены для него тенями и призраками. Поэтому у Тютчева взаимосоотнесенными являются такие строки, как
и
«Сумрак воспоминания» у Тютчева, следовательно, эквивалентен в своей призрачности сумраку пророчества, и это может показаться парадоксальным, если вспомнить, с каким жаром поэт говорил о своих исторических предвидениях. Но в этом, думается, и коренится его личная драма, связанная, кроме прочего, с пониманием чужести инобытийного, обитатели которого – духи (и – временно – души, думы, освобожденные сном) – знают все, но либо играют с человеком, либо, говоря на своем иноязыке, лишают его (человека) возможности понимания пророчеств. Тютчева манят тени и призраки как последний след ускользающего бытия, но и отторгают своей зыбкостью. Потому он, фактически, не доверяет ни миру видимому, осязаемому, мыслящему и мыслимому, ибо он призрачен перед инобытием («И, как виденье, внешний мир ушел…»), ни миру инобытийному, сумеречному, хоть в нем и сосредоточены ответы на вопросы бытия. Таким образом, мы не обнаруживаем у Тютчева того, что некоторые исследователи именуют «объективной реальностью», зеркальное отражение коей в сознании поэта порождает, якобы, образ тени[283]. Напротив, как мы видим, наличное бытие у Тютчева лишено объективности и потому населенность мира тенями и призраками делает у него любую точку отсчета – во времени ли, в пространстве физическом или метафизическом – моментом медиумическим, как медиумичен в отношениях с разными измерениями зримо и незримо сущего и сам поэт, всегда пребывающий «на пороге как бы двойного бытия».
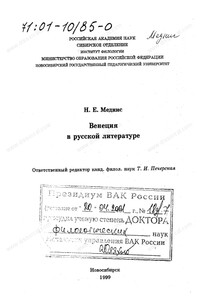
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

В книге рассматриваются пять рассказов И. А. Бунина 1923 года, написанных в Приморских Альпах. Образуя подобие лирического цикла, они определяют поэтику Бунина 1920-х годов и исследуются на фоне его дореволюционного и позднего творчества (вплоть до «Темных аллей»). Предложенные в книге аналитические описания позволяют внести новые аспекты в понимание лиризма, в особенности там, где идет речь о пространстве-времени текста, о лиминальности, о соотношении в художественном тексте «я» и «не-я», о явном и скрытом биографизме. Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов. Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.