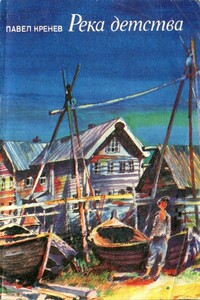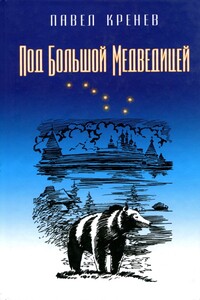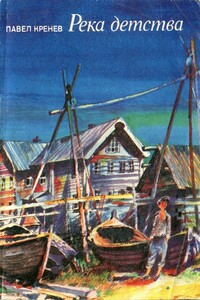И вот уже прилетели с юга первые птицы. Запели на амбарах, на рыбацких вешалах пересмешники-скворцы, по не оттаявшему еще до конца песку морского берега забегали красноногие и долговязые кулики-сороки, изысканно-нарядные, словно столичные франты.
В оттепель по высокому небу проплыли самые первые гусиные караваны.
С Юга на Север прилетела Весна.
В морской воде рядом с берегом плавал лебедь.
– Сванька, Сванька! – кричала ему ребятня и кидала хлебные крошки.
Лебедь играл с ребятишками, хлопал окрепшими крыльями, шумно плескался и ловил крошки на лету. Феофан сидел на бревне поодаль, покуривал папироску и глядел на ребятишек и на море.
С приходом весны у него появилась большая забота. Надо было решать: как быть дальше с воспитанником?
Зинаида говорит: нельзя ему на волю, ручной он, где-нибудь подлетит к человеку, а люди разные. Что правда, то правда.
С другой стороны, дикая птица – не курица же, не пристало ей в навозе червяков ковырять. Ей нужен простор и воля, перелеты на юг и на север, нужна подруга, чтобы где-то на самых дальних потаенных озерах построить свое гнездо и продолжить лебединый род… Так назначено самой природой, и не Феофану с Зинаидой переиначивать.
На другой день с самого утра Феофан пошел на Долгое ставить капканы на ондатру. Первый раз в этом сезоне. Сваню взял с собой.
– Ты только покорми его там, – все утро напоминала Зинаида.
– Сам наестся, – усмехнулся Феофан, – што он, маленький?
Но корма прихватил.
Сваню они укладывали вместе. Кое-как поместили в корзину-«нагрузку», глубокую и новую. Сваня огрызался, не хотел туда лезть, отрывисто гагакал и отводил шею, будто прицеливался долбануть хозяев в их физиономии, растопыривал крылья.
– Вот ты у меня поупираиссе! – шумел на него Феофан. – Враз мешок на голову…
Но все обошлось, и Сваня сидел в «нагрузке», укрытый марлей, торчала наружу только голова – точь-в-точь гусак, которого повезли на базар.
Зинаида ни с того ни с сего обрядилась вдруг провожать, дошла до калитки, там погладила Сваню по голове. Стала вдруг печальной.
– Ты чего эт? – удивился Феофан.
Жена махнула рукой, провела пальцами по глазам, будто убрала чего-то, что мешало.
– В лес ведь несешь, а там неизвестно… Жалко его…
Феофан чуть было не взъерепенился: как на поминках, куда же нести-то? Около дома лебеди не летают и не гнездятся.
Не стал все же заводиться, вздохнул да пошел.
На озере Середнем стоял еще лед. Ходить по нему было, конечно, уже нельзя, потому что был он темен, ноздреват, пробит промоинами, а от берега метра на два-три и вовсе оттаял. Но лежал по всему озеру, кроме разве что одного места – устья реки, впадающей на другом, противоположном от деревни, конце. Там разбухшая от половодных стоков Верхотинка раскромсала озерный лед, выдолбила в нем просторную полынью. Там и выпустил Сваню.
Освободившись от корзины и марлевых пут, Сваня вытянул шею, резко и возбужденно крикнул «Ганн!», замахал крыльями и побежал к полынье, с лету бухнулся в воду.
Быстро поплыл вдоль ледяной кромки. Затем в восторге задрал кверху клюв, приподнялся над водой, шумно заколотил крыльями себя по бокам.
– Клин-клин-клин-н-н! – разнесся над озером Середним ликующий его крик.
Феофан сидел на кочке, приминал пожухлую прошлогоднюю траву, курил и то ли глубоко вдыхал табачный дым, то ли вздыхал.
– Вот дает, крикун, мать его! – приговаривал он, щурясь.
Что-то волновало его. И было в этом волнении что-то нехорошее, тяжелое.
На душе, кроме восприятия новой, радостной для него весны, законного удовлетворения, что смог он все же поднять Сваню на крыло, поправить свою ошибку, лежала и ворочалась смутная тревога.
Скоро он понял, что тревогу эту приносит память о недавнем его поступке, худом, постыдном до конца его дней.
Надо же! Он сидел как раз на том самом месте, откуда стрелял. Стрелял по нему, по Сване. Прошлой осенью. Вон оно что…
Феофан рывком поднялся, отошел быстрым шагом от проклятого места.
Покрутился, попримеривался перед тем, как сесть снова. Как собака, когда ложится на снег.
Капканы он так и не поставил. Долго просидел перед полыньей, где булькался в воде Сваня. Идти никуда не хотелось…
Перед уходом высыпал на край полыньи еду, которую принес: хлебные крошки, вареную рыбу, мелкие ракушки, собранные на морском берегу.
В полынью к Сване подсаживались утки, и он нещадно гонял их, покрикивал, давал понять, что здесь он хозяин.
Домой Феофан ушел один.
В лесу пели дрозды.
Небо тут и там прошили строчки гусиных стай, попадающих на Север.
Вот-вот прилетят и лебеди. И заберут с собой Сваню.
8
На другой день была суббота, было открытие охоты.
Феофан подготовился с вечера: набил патроны – зарядил их «четверкой» – самой универсальной дробью, снял с гвоздя ружье, дунул в стволы, затем щелкнул курками и нацелился в стену.
Все это он проделал почти машинально, потому что так было уже много-много раз, каждый год, перед каждой охотой осенью и весной.
А утром, уходя в лес, ружье не взял.
Зинаида кухарничала у печки, гремела противнями, возмущалась:
– Делов дома – спасу нету, а он воздухом идет дышать! Дробовки и той не берет. Че без дробовки-то?
– Капканы же надо проверить, мешать только будет.