Поцелуй на морозе - [68]
Через пару дней я двинулся дальше, на этот раз ехать пришлось днем – с утра до вечера. Латвию я лишь проехал – повторить эстонский фокус тут не удалось. Потом в течение многих часов за окнами виднелись пущи старой, совсем патриархальной Литвы. Солнце опускалось всё ниже, на искрящиеся сугробы ложились голубые и фиолетовые тени, морозный небосвод подпирали столбы огромных, мачтовых сосен. Я жадно всматривался в эти картины, полные понятных для каждого поляка ассоциаций и подробностей. Но сосредоточиться не удавалось, поскольку день прошел под аккомпанемент неустанно бренчащих слов. В купе была одна соседка, среднего возраста и непримечательной внешности. Когда я вошел туда утром, она открыла рот и закрыла его лишь вечером, на виленском перроне. Надобность притворяться своим тут же отпала, ибо моя национальная принадлежность не играла никакой роли: я мог бы быть американским военным атташе при полных регалиях или пришельцем из космоса – неудержимый поток слов струился бы подобным же образом. Через полчаса я знал всё о перенесенных ею абортах и физиологических проблемах климактерического периода. Первый муж был отпетым алкоголиком, второй в припадке безумия хотел ее зарезать, кандидат на роль третьего – поляк, добрая душа, только, рассердившись, ругает ее так, что сбегаются все соседи. Теперь она едет к матери в Дагестан, где ретивые кавказцы, понятно, не дадут ей проходу, но, как она полагает, на них можно положиться. Работает она на мясокомбинате, ночами ее преследуют страшные сны. И еще почему-то – что в вытрезвителе избивают до потери сознания. А также – скажите, почему эти эстонцы так нас не любят? Я начал было формулировать взвешенный ответ, но вопрос оказался чисто риторическим, а монолог продолжался: нервное напряжение должно было выплеснуться до конца. В Вильно я сбежал от нее, но до Дагестана был еще практически весь Союз – сверху донизу, так что жертв вынужденного соседства оказалось, должно быть, немало. Впрочем, я не смеялся тогда и не усмехаюсь теперь. Слишком много видел я там невротиков, людей с искрящими кончиками нервов, выпущенными наружу, к тому же людей всех сословий, сфер, поколений…
В Вильно меня принял под свой кров хороший художник, работавший в абстракционистской манере, Жильюс. У него с женой уже были на руках выездные документы по еврейской линии, а потому они могли себе позволить принимать в доме иностранца без прописки. Меня предупредили, в чем специфика ситуации: за квартирой, очевидно, ведется наблюдение. Но, слава Богу, всё обошлось, и в течение нескольких дней я увлеченно окунался в новый для себя город и новую среду. Среди людей – по крайней мере, тех, с кем я встречался – царило много грустного, птичьего волнения и неуверенности: лететь за море или оставаться? Готовился к отлету и очень крупный поэт Томас Венцлова, которого – вследствие крупного формата и сходного профиля творчества – можно условно назвать литовским Бродским. Парижская «Культура» опубликовала в 1979 году его важный диалог с Чеславом Милошем, посвященный Вильно, судьба которого рассматривалась в различных этнических аспектах. Тогда, в 1976 году, свидетельства постоянного присутствия польской культуры, раздумья о Польше, высокая оценка исторических связей с ней встречались мне в среде литовских интеллигентов на каждом шагу. Хотя размышления эти заключали в себе и некоторое беспокойство, о чем скажу дальше.
Я спешно старался уловить виленский genius loci (дух места). Не могу отважиться на описание, требующее более основательных знаний, но у меня и теперь перед глазами приземистая, могучая, средневековая кривизна светлых стен городского центра, ведущих плавными поворотами в резких светотенях зимних ночей. Это ветвь ренессанса и барокко неслыханной красоты, неописуемой прелести, укорененная в многоэтничной местной земле – восточная и западная одновременно. Я восхищался, как и каждый, святой Анной с ее стреловидной вертикалью и изяществом торунского пряника. Рядом чернел замкнутый массив Бернардинского монастыря. Когда я спросил какую-то старушку по-русски, можно ли туда попасть, то услышал: «Мусичь ня можна» c таким восхитительным распевом гласных, что тут же (вопреки всякой логике) двинулся в обход и через какую-то приоткрытую калитку проник внутрь. Меньше мне повезло с костёлом Сердца Иисуса, к которому я свернул, спускаясь к городу со стороны кладбища в Россе: меня остановили при входе и вежливо выпроводили, так как храм оказался опутанной колючей проволокой по самые макушки сторожевых вышек колонией или тюрьмой для несовершеннолетних преступников. Но общее впечатление от поисков польских следов было неплохое. Правда, польская историческая субстанция здесь подавалась, как правило, как пралитовская, но была спасаема и оберегаема. Это выглядело гораздо лучше и достойнее, чем варварское уничтожение наследия польского прошлого во Львове.
Братья-литовцы кормили меня и рассказами о своей недавней истории. Я слышал о массовых депортациях перед самой войной с Германией в 1941 году и о том, что – логично – немцев тогда встречали как освободителей; о самоуправлении, которое в то время было Литве дано, а затем отобрано, и о жестоких репрессиях, начавшихся с 1944 года, в результате которых родину покинул, как говорят, каждый десятый житель; о предшествующем бегстве от возвращающейся Советской Армии десятков тысяч представителей интеллигенции; о десятилетней гражданской войне и «лесных братьях», которых чуть коснулся Витаутас Жалакявичюс в фильме «Никто не хотел умирать». Поскольку я и так находился в Литве нелегально, меня посадили в автомашину и отвезли в Ковно (Каунас), официально закрытый для иностранцев. Я увидел бывшую «столицу в силу необходимости», лишенную виленского блеска, заслуженный и достойный мещанский город, нечто среднее между Ченстоховом и Познанью. Но и здесь реставрировали их и наше прошлое: мне с гордостью показывали сверкающий чистотой, обновленный домик пани Ковальской, куда пан Адам Мицкевич любил наведываться после уроков, которые давал в соседней гимназии. Тут же рядом возвышалась внушительная, двукрылая, дворцовая постройка с очень оригинальным двойным предназначением: в одном крыле казармы, в другом – духовная семинария, на одной башне крест, на другой красная звезда, а сзади расстилалась долина Немана, через которую двигался на империю в 1812 году Наполеон (въезжая, он, что было дурным предзнаменованием, упал с лошади). Так переплетались и накладывались друг на друга разные слои и фрагменты истории. Дабы я сильнее ощутил их сложную взаимосвязь и совместное давление, на обратном пути мне рассказали о хитростях, к которым прибегал Снечкус, многолетний партийный руководитель Литвы, чтобы спасти отечественное сельское хозяйство от кукурузной мании Хрущева, а также о том, что единственную в Союзе настоящую автостраду здесь соорудили при том же Снечкусе – притом по секрету от Москвы, под видом ремонта давнего шоссе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это похоже на легенду: спустя некоторое время после триумфальной премьеры мини-сериала «Семнадцать мгновений весны» Олег Табаков получил новогоднюю открытку из ФРГ. Писала племянница того самого шефа немецкой внешней разведки Вальтера Шелленберга, которого Олег Павлович блестяще сыграл в сериале. Родственница бригадефюрера искренне благодарила Табакова за правдивый и добрый образ ее дядюшки… Народный артист СССР Олег Павлович Табаков снялся более чем в 120 фильмах, а театральную сцену он не покидал до самого начала тяжелой болезни.

Автор текста - Порхомовский Виктор Яковлевич.доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН,профессор ИСАА МГУ Настоящий очерк посвящается столетию со дня рождения выдающегося лингвиста и филолога профессора Энвера Ахмедовича Макаева (28 мая 1916, Москва — 30 марта 2004, Москва). Основу этого очерка составляют впечатления и воспоминания автора о регулярных беседах и дискуссиях с Энвером Ахмедовичем на протяжении более 30 лет. Эти беседы охватывали самые разные темы и проблемы гуманитарной культуры.
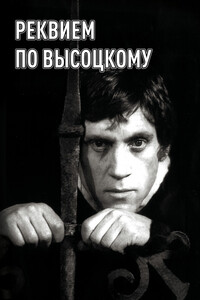
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.