Поцелуй на морозе - [66]
Так должно было быть и на этот раз. В заявленном маршруте я указал прибалтийские республики и наперёд радовался интересной поездке. В Эстонии была и существует прекрасная литература, представленная на всесоюзном небосклоне созвездием светил первой величины. Я уже тогда начитался книг великолепного Яана Кросса, лучшего в Союзе чуть ли не со времен Тынянова мастера исторической прозы, ищущего в прошлом корни эстонской ментальности и эстонской судьбы. А также по-чеховски тонкого в анализе человеческих падений и драм Энна Ветемаа и глубокой, имеющей вкус к ситуационной метафоре, притче, параболе Эмэ Беэкман, и нескольких других. Об остальном я догадывался и тем более туда торопился. Литературная Литва вырисовывалась не столь блестяще, но здесь главным было Вильно (Вильнюс), которого никогда прежде, даже в пору довоенного детства, я не видел, в остальном следовало сориентироваться на месте. Латвия была мне известна слабее – я знал лишь, что там есть несколько хороших поэтов и менее значительных прозаиков. Всё это, однако, было вычитано и требовало проверки в реальной действительности. Я рылся в своем архиве с газетными вырезками, уточняя, кто есть кто в Прибалтике, чтобы не выглядеть типичным приезжим репортером-невеждой, я знал также по своему прежнему опыту, как высоко ценят в союзных республиках хоть какое-то знание местной специфики. Рылся – и паковал чемоданы.
И вот тут наступил сбой. Еще немного, и всё полетело бы в тартарары. Дело в том, что в начале декабря я совершил один неблагонадежный, с точки зрения властей, поступок – подписал, вместе с группой других лиц, неприятный для этих властей документ. Варшавское руководство довольно долго пережевывало и переваривало этот инцидент: сначала было глухо, а спустя два месяца начались расторжения издательских договоров, посыпались отказы из газет и журналов, к осени я почувствовал себя совсем налегке – не отягощенным никакими официальными обязательствами.
Иначе действовала советская власть. Правда, подписанный текст и ее в какой-то мере касался. Но она выказала подлинную, долгим историческим опытом выработанную эффективность. И оперативность – как камушком по головушке. Уже пару дней спустя по оглашении документа из Москвы пришло сообщение, что меня в числе приглашенных не ждут. Ситуация была: кто кого обгонит? С помощью добрых людей я сделал вид, что меня в Варшаве уже нет, а сам срочно выехал в Москву, где с невинным лицом отправился в Союз Писателей. Всегда доброжелательный и ценимый поляками Виктор Борисов принял меня с немалой озабоченностью и сообщил, что я официально объявлен persona non grata. Я разыграл удивление и целую гамму оттенков сожаления. Борисов как весьма опытный специалист в области советско-польских контактов знал, разумеется, что мне уже всё известно, но убедительно притворялся, будто об этом не догадывается. Но сожалел о случившемся он, похоже, искренне, поскольку, кроме всего прочего, эти польские истории должны были впредь весьма осложнить ему и без того нелегкую работу, что он явно предчувствовал. Мы расстались в довольно грустном настроении. Я перестал бывать в писательском клубе, удобном в качестве места встреч, но это не было большой утратой. Все мои знакомые и друзья в один голос утверждали, что ЦДЛ (Центральный Дом Литераторов) окончательно деградировал и стал прибежищем пьяной бездари. Похоже, так оно и было, а кроме того после десяти с лишним лет регулярных посещений Москвы я уже протоптал здесь собственные тропки и подходы, а потому встречи не отменялись, а проводились в других местах.
Потекла обычная по приезде жизнь. Но и не совсем такая, как всегда.
Дело в том, что атмосфера была отравлена горьким предчувствием неизбежного конца, конца моего длительного цикла встреч с Россией. Бравурная эскапада удалась, но в перспективе маячил, как минимум, долгий перерыв. Может, даже очень долгий. И я знал об этом. Слово «никогда» тоже возникало на самом дне сознания, поскольку и это следовало допустить. А потому нормальные встречи заключали в себе и некий момент прощания. Не слишком значительный, но всё же… Зима стояла морозная, но, кажется, солнечная: во всяком случае, я запомнил резкий блеск лучей заходящего солнца, догорающих на сугробах неубранного снега. Летом закатная пора здесь великолепна и продолжительна, но и в этом долгом, словно бы бесконечном угасании ярких красок и резких очертаний заключена какая-то печаль: день уходит. Очень люблю эту пору: в ней есть какое-то скрытое напряжение. Именно она теперь, двенадцать лет спустя, кажется общим тоном и настроением той поездки. Поэтому я и говорю о ней отдельно, как и о той первой – фестивальной.
Тем временем проходил декабрь. Я посещал старых знакомых и друзей. Некоторых уже более не увижу – они затем скончались. Других же – не увижу в их обычном русском окружении, поскольку они эмигрировали. Так что это «никогда» уже частично осуществилось.
В той же меланхоличной атмосфере наступил и Новый Год. Мы провели его с женой у супружеской четы нашего возраста, а следовательно, сходного опыта людей одного поколения. Праздников в России немного, но зато празднуют их долго: Новый Год встречают здесь порой в течение трех дней. Город становится почти безлюдным и нереальным. Три дня мы провели только вчетвером – в долгих разговорах обо всем, рассматривая старые книги, слушая пластинки, предаваясь воспоминаниям. Наши друзья жили в центре, где-то близ Чистых Прудов, хорошо известных читателям рассказов Юрия Нагибина. Это солидная, старая Москва. Квартира принадлежала отцу хозяйки дома, скончавшемуся несколько лет назад в уже несколько поблекшем ореоле славы. В сталинскую эпоху этот человек участвовал в покорении Арктики, что в тридцатые годы было предметом всеобщего восхищения. Фамилию исследователя Заполярья знала вся страна, на групповых фотографиях он был снят вместе со Сталиным. Квартира соответствовала его рангу: огромная, внушительная, заставленная крупной мебелью – истинный памятник эпохи культа. Время здесь остановилось и материализовалось. Вначале мне хотелось всё точно запомнить, а затем передать в описании, но – как бывает в таких случаях – всё укладывалось и запечатлевалось в памяти так хорошо, что эта полнота чувств уже никогда не повторялась впоследствии. Мой язык и теперь костенеет, хотя я вижу всё разом и очень выпукло: тяжелые шторы, светлые обои, проблематичные по своей художественной ценности, но богато оправленные картины, громадные библиотечные шкафы, большие клубные кресла для толстозадых вельмож, буфетыкрепости, круглые столы. Материалом служили плюш, красное дерево, хрусталь, кожа, гамма цветов – темная, от пурпура до бронзы, оранжевый свет от абажура. В этом интерьере легко представить себе (отчасти, как думаю, под воздействием фильмов и портретов той эпохи) прежних обитателей квартиры и их гостей, сталинскую элиту, их костюмы, вечерние платья и прически, их банкеты с обязательным первым тостом за отца народов, их грубые шутки, веселые песни и скрытые страхи… Всё нарочито, напоказ, вызывающе, одновременно неправдоподобно и сверхъестественно правдиво. Среди подобных теней и видений я провел новогоднюю ночь и вновь ощутил нечто существенное, доступное только там, на месте, у истоков. Утром я гулял по пустым заснеженным бульварам – всё еще спало, мир вокруг застыл в неподвижности, и это глубоко соответствовало реальности, поскольку Москва, Россия, Союз находились как раз в стадии усыпляющего застоя, прогрессирующего паралича. По-русски есть такое слово безвременье. Это и было безвременье – для них, так как нас 1976 год продвинул к новой поре, дал некое ускорение. Но это стало ясно позднее.

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.
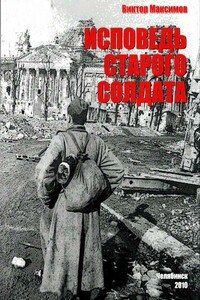
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.
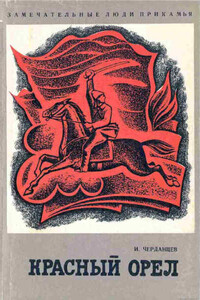
Эта книга рассказывает о героических днях гражданской войны, о мужественных бойцах, освобождавших Прикамье, о лихом и доблестном командире Филиппе Акулове. Слава об Акулове гремела по всему Уралу, о нем слагались песни, из уст в уста передавались рассказы о его необыкновенной, прямо-таки орлиной смелости и отваге. Ф. Е. Акулов родился в крестьянской семье на Урале. Во время службы в царской армии за храбрость был произведен в поручики, полный георгиевский кавалер. В годы гражданской войны Акулов — один из организаторов и первых командиров легендарного полка Красных орлов, комбриг славной 29-й дивизии и 3-й армии, командир кавалерийских полков и бригад на Восточном, Южном и Юго-Западном фронтах Республики. В своей работе автор книги И.