Поцелуй льва - [11]
― Стой! Руки вверх!
Одновременно я ощутил острый укол в левое плечо.
― Парень, что ты тут делаешь?
Ошеломлённый, я поднял глаза.
Это был польский солдат, или, скорее, полусолдат: на нём были военные штаны и ботинки, гражданский пиджак и рубашка. В руках он держал винтовку со штыком.
― Я иду домой…за едой. Я ночевал в убежище. Я голодный. Я ничего против вас не имею.
Его глазища, ни карие, ни зелёные, а какие-то дурновато-жёлтые, безжалостно осматривали меня. Он скривил уголок губ так, как будто не мог решить, что со мной делать.
Наконец, переступив с ноги на ногу, полез в свой нагрудный карман и протянул мне кусок сухаря.
Потом он положил винтовку в сторону и начал переодеваться, время от времени посматривая на меня. Лицо его было большое, круглое и какое-то нескладное: маленький курносый нос, широкие щёки, плоский подбородок, как лопухи уши, и ещё те жёлтые глаза. Типичная chlopska morda,[13] как говорят горожане-поляки.
Его грубая физиономия совсем не подходила к костюму, который он сейчас одел. Так же нелепо выглядело его приземистое, бочковатое тело. Я подумал, что он, наверно, унаследовал этот роскошный, но не идущий ему костюм от кого-то высокого, важного, со статной осанкой.
Внимательно присмотревшись, я понял, что костюм принадлежал пану Ковалю. Он висел в шкафу из красного дерева в спальне пана Коваля. Тот одевал его только в особых случаях, таким элегантным был его покрой и такой дорогой была ткань.
Солдат, увидев что я узнал украденный костюм, прицелился в меня из винтовки:
― Слушай-ка парень, я взял себе одежду, но я не вор. Он мне нужен, чтобы безопасно добраться домой. ― Он говорил по-польски с провинциальным акцентом крестьян, которые продают молоко и овощи на городских базарах.
Я заверил его, что всё полностью понимаю, и что пан Коваль так же бы с ним согласился. Он ответил, что пан Коваль ему do dupy,[14] но он хочет, что бы я не считал его мелким воришкой.
Скручивая штаны, он рассказал мне, что немецкие патрули прорвались в центр города, но к рассвету отступили на пригородные позиции. Когда я сказал ему, что во вчерашнем выпуске новостей сообщили, что врага остановили за двести километров на запад от Львова, он зашелся смехом.
― Парень, радио врёт. Это конец. Польской армии больше нет. Воюют отдельные отряды. Все остальные разбежались. Именно поэтому я стал дезертиром.
Он застегнул пиджак пана Коваля, потом выбросил свою униформу в кусты роз и пробормотал:
― Как раз господа, что живут в таких домах с живоплотами, садиками и несут ответственность за войны и кровопролитие.
Пока я обдумывал его слова, он спрятал штык в штаны, а винтовку протянул мне:
― На, парень, будешь играться в солдата.
Я вял, думая, что теперь смогу расквитаться с Вандиным отцом.
Когда дезертир исчез за кустами сирени, я побежал в дом. В спальне пана Коваля были раскрыты настежь дверцы шкафа, хрустальное зеркало разбито. Пустой нижний ящик одиноко лежал перевернутым на паркетном полу. Всё остальное в комнате было как и раньше, за исключением покрывала на кровати ― посредине, там где солдат ложил винтовку, когда рылся в шкафу, получились складки.
Фотель,[15] который, не знаю почему, пан Коваль называл «фотелем любовников», стоял под стеной так же, как и до его отпуска. Сундук, в котором он держал свой коротковолновый радиоприемник, был закрыт, его никто не трогал. Граммофон возле кровати вроде только и ждал, чтобы его включили. А из-за тяжёлых, наполовину задёрнутых штор, пурпурные обои казались ещё темнее обычного.
Это была спальня пана Коваля, тут он принимал женщин различного возраста и внешности. Даже нашу хозяйку. Некоторых из посетительниц я видел через замочную скважину оголенными. Как на меня, самой красивой была Анна. У неё были до пояса волосы и гладкая, будто из алебастра, кожа.
Один раз, думая что пан Коваль на работе, я, не постучав, зашёл в его спальню. Я стучал, даже если его не было дома, потому, что, казалось он всегда знал, что я делаю, хотя ничего не видел и ни о чём не расспрашивал.
Зайти в спальню пана Коваля во время его отсутствия ― это вроде попасть в святилище. Я ощущал это и сейчас, когда стоял возле разбитого зеркала. К тому же это чувство усиливала фотография пана Коваля, на которую падали лучи утреннего солнца, проникающие сквозь щель между шторами. В золотой рамочке под стеклом, на письменном столе возле стола, правее окна, стояла фотокарточка.
На фото был стройный человек в форме австро-венгерской армии, одна рука была опущена в карман. Лицо его было ясным и открытым: прямой нос с чувствительными ноздрями, лукавый взгляд из-под длинных ресниц, подбородок с ямочкой посредине, любовно ухоженные усы. Это было уверенное, самоудовлетворённое лицо с улыбкой, как у святого Юрия, когда он убил дракона.
Рядом со спальней пана Коваля была моя комната, третья по площади. Небольшой стол, стул и кровать ― вот и вся меблировка. Над кроватью висела икона Божьей Матери с младенцем Иисусом на коленях. Иисусик был голый, а его мать имела на себе шёлковое платье с золотой оборкой. Я знал мельчайшие детали образа, т. к. каждый вечер перед сном молился на него.

Когда Человек предстал перед Богом, он сказал ему: Господин мой, я всё испытал в жизни. Был сир и убог, власти притесняли меня, голодал, кров мой разрушен, дети и жена оставили меня. Люди обходят меня с презрением и никому нет до меня дела. Разве я не познал все тяготы жизни и не заслужил Твоего прощения?На что Бог ответил ему: Ты не дрожал в промёрзшем окопе, не бежал безумным в последнюю атаку, хватая грудью свинец, не валялся в ночи на стылой земле с разорванным осколками животом. Ты не был на войне, а потому не знаешь о жизни ничего.Книга «Вестники Судного дня» рассказывает о жуткой правде прошедшей Великой войны.

До сих пор всё, что русский читатель знал о трагедии тысяч эльзасцев, насильственно призванных в немецкую армию во время Второй мировой войны, — это статья Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса», опубликованная в «Правде» 10 июня 1943 года. Именно после этой статьи судьба французских военнопленных изменилась в лучшую сторону, а некоторой части из них удалось оказаться во французской Африке, в ряду сражавшихся там с немцами войск генерала де Голля. Но до того — мучительная служба в ненавистном вермахте, отчаянные попытки дезертировать и сдаться в советский плен, долгие месяцы пребывания в лагере под Тамбовом.

Излагается судьба одной семьи в тяжёлые военные годы. Автору хотелось рассказать потомкам, как и чем люди жили в это время, во что верили, о чем мечтали, на что надеялись.Адресуется широкому кругу читателей.Болкунов Анатолий Васильевич — старший преподаватель медицинской подготовки Кубанского Государственного Университета кафедры гражданской обороны, капитан медицинской службы.

Ященко Николай Тихонович (1906-1987) - известный забайкальский писатель, талантливый прозаик и публицист. Он родился на станции Хилок в семье рабочего-железнодорожника. В марте 1922 г. вступил в комсомол, работал разносчиком газет, пионерским вожатым, культпропагандистом, секретарем ячейки РКСМ. В 1925 г. он - секретарь губернской детской газеты “Внучата Ильича". Затем трудился в ряде газет Забайкалья и Восточной Сибири. В 1933-1942 годах работал в газете забайкальских железнодорожников “Отпор", где показал себя способным фельетонистом, оперативно откликающимся на злобу дня, высмеивающим косность, бюрократизм, все то, что мешало социалистическому строительству.
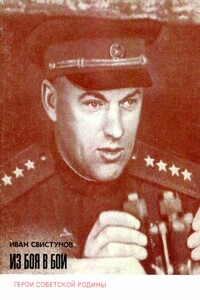
Эта книга посвящена дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.В центре внимания писателя — отдельные эпизоды из истории Великой Отечественной войны, в которых наиболее ярко проявились полководческий талант Рокоссовского, его мужество, человеческое обаяние, принципиальность и настойчивость коммуниста.

Роман известного польского писателя и сценариста Анджея Мулярчика, ставший основой киношедевра великого польского режиссера Анджея Вайды. Простым, почти документальным языком автор рассказывает о страшной катастрофе в небольшом селе под Смоленском, в которой погибли тысячи польских офицеров. Трагичность и актуальность темы заставляет задуматься не только о неумолимости хода мировой истории, но и о прощении ради блага своих детей, которым предстоит жить дальше. Это книга о вере, боли и никогда не умирающей надежде.