По следам героев - [9]
— А рассвет нам не помеха, — словно размышляя вслух, продолжал он, глядя на синеющую неподалёку стену леса. — Скоро эти места накроет туман. Он долго будет лежать, потому что ветра нет.
Рахимов знал, что говорил. Он с детства любил природу, умел делать из своих наблюдений правильные выводы. Видя, что боевые товарищи не очень верят его словам, добавил:
— Это я точно говорю, ребята, вот посмотрите. Ветка дерева не шелохнётся.
— Значит, можно будет ещё пощупать белофиннов! — с уверенностью в голосе произнёс командир.
— Ну, конечно!
И опять под лыжами заскрипел снег. Разведчики двинулись к центру острова.
Вскоре действительно пал туман, и всё вокруг потеряло свои очертания, стало каким-то расплывчатым.
Впереди послышался шум. «Что это?» — насторожились разведчики. Подобравшись ближе, они обнаружили отряд вражеской пехоты, который, видимо, только что вступил на небольшую поляну.
Из тумана ударил пулемёт Рахимова. После короткого боя, в котором преимущество неожиданности нападения было на стороне наших разведчиков, вражеский отряд предпочёл отступить, хотя по численности имел многократное превосходство.
Так дерзкими мгновенными налётами разведгруппа изгнала врага из северной, и восточной части острова.
Смельчаки лишь в семь часов утра 23 февраля — в день 22-й годовщины Красной Армии — покинули остров. Враг не заметил их ухода.
Советское командование своевременно получило необходимые ему сведения.
За смелость и решительность, проявленные во время разведывательных действий группы на острове Койвисто-Бьерке, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года красноармейцу Бакыю Сибгатулловичу Рахимову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Однако радостная весть о высокой награде Родины не дошла до него: 3 марта 1940 года, за десять дней до подписания соглашения с Финляндией о прекращении боевых действий, он погиб в неравной схватке с врагом.
Герой Советского Союза Бакый Сибгатуллович Рахимов похоронен в братской могиле на острове Тупуран-Саари.
Над бушующей пучиной…
Минувшим летом я провёл отпуск в одном из домов отдыха под Киевом. Вода, песок — хочешь купайся, хочешь загорай. Ко всей этой благодати — совсем рядом сосновый бор со смоляным и хвойным запахом. Хорошее место. А если к тому же до города близко и можно при необходимости обернуться туда-сюда за какой-то час, то становится понятным, почему его облюбовали творческие люди — композиторы, писатели, артисты.
У этой категории людей есть своя особенность. Они любят общение, любят хороший интересный разговор. Солнце ещё только-только, будто стесняясь, робко кажет миру сверкающую макушку — как я вам понравлюсь! — а они уже на ногах. Неспешно, степенно покашливая, вышагивают по аллеям и тропинкам, дышат свежим воздухом. Другие ходят быстро, устремляясь вперёд, и, глядя на них, невольно думаешь: у этого человека ноги не поспевают за мыслью. Днём, когда солнце палит во всю силу, они выбирают места поукромнее, потенистее и ведут беседы — большей частью вдвоём, втроём. И вечерами не спешат они уединяться в своя комнаты, сидят допоздна вокруг цветочных клумб — сидят свободно, непринуждённо: вспоминают былое, интересуются, кто есть кто, откуда, ищут общих знакомых.
Мне не было скучно среди них, потому что я тоже, по правде говоря, оказался в знакомой для меня стихии.
В первый же вечер я познакомился со скульптором Кравченко Яковом Александровичем. Произошло это так. В одиночестве, ещё никого не зная, я мерял шагами аллею, привыкая к новому месту. Вдруг меня окликнули. Высокий, сухощавый мужчина в голубом берете и лёгком льняном костюме цвета морской волны, мягким южным говорком, мешая в русскую речь украинские слова, предложил мне присесть рядом с ним на скамье.
Узнав, что я из Казани, этот, судя по всему, многое повидавший человек, заметно оживился. Придвинувшись ближе и сложив руки с длинными, тонкими пальцами на набалдашнике бамбуковой тросточки, он приготовился к обстоятельной беседе.
Мы долго говорили о нашем Мусе Джалиле — гордости татарского и всего советского народа. Казань тоже была в центре разговора. Услышав, что Татария держит за собой первое место в стране по добыче нефти, старый скульптор вдруг замкнулся, ушёл в себя. Я говорил, а он — это чувствовалось — не слышал меня: подёргивал бровями, тихонько, как бы про себя (то ли подтверждая свои мысли, то ли отвергая их), покашливал.
Я насторожился. В чём дело? Почему мой собеседник, казалось бы, ни с того ни с сего так переменился. Глаза полуприкрылись и глядят куда-то вдаль, да и всё лицо резко изменилось: только-только приветливое, даже моложавое из-за явно написанного на нём интереса, оно враз осунулось, как у человека, переживающего большую скорбь. Он сидел, всё так же опираясь на тросточку, чуть подавшись вперёд. Над нами висел на столбе фонарь, и в его свете фигура Якова Александровича показалась не то чтобы жалкой, а заметно сжавшейся, осевшей. Что с ним стало? Неужели я его обидел необдуманным или не к месту сказанным словом? Вроде бы нет. Может, кого из общих знакомых упомянул не к месту… Или мои слова о татарской нефти не совпали с его представлениями. Может, его сын или дочь трудятся у нас на промыслах и писали ему, как у нас годами сгорает газ в факелах? Старики — они прямы на чувства. А может, ещё ему вспомнилась крылатая фраза нашего знаменитого учёного Менделеева о том, что сжигать попутный нефтяной газ подобно тому, что топить печь ассигнациями, и он сейчас начнёт критиковать всех подряд. Ничего не поделаешь. Правду, какой бы горькой она ни была, надо выслушивать. Я никакого отношения к нефти и газу, кроме как в кухонной плите, не имею, однако, числясь в журналистах, тоже ни слова не написал против слишком расточительного отношения к подземным богатствам. А раз так, то сиди и слушай. Хоть кое-что у нас уже делается в этом направлении, однако количество факелов, впустую обогревающих воздух, уменьшается не с такой быстротой, как хотелось бы. Так что давай, Яков Александрович, крой порезче, с солью, с перцем. Придётся терпеть.
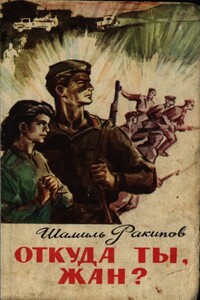
Татарский писатель Шамиль Ракипов, автор нескольких повестей, пьес, многочисленных очерков и новелл, известен всесоюзному читателю по двум повестям, переведённым на русский язык, — «О чём говорят цветы?» (1971 г.) и «Прекрасны ли зори?..» (1973 г.).Произведения Ш. Ракипова почти всегда документальны.«Откуда ты, Жан?» — третья документальная повесть писателя. (Издана на татарском языке в 1969 г.) Повесть посвящена Герою Советского Союза Ивану Константиновичу Кабушкину.Он был неуловимым партизаном, грозой для фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии.В повести автор показывает детские и юношеские годы Кабушкина, его учёбу, дружбу с татарскими мальчишками, любовь к Тамаре.
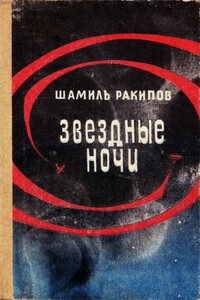
В основе документально-художественного романа — героический путь женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, в составе которого было 23 Героя Советского Союза.Повествование ведется от имени Магубы Сыртлановой — бывшего заместителя командира эскадрильи.
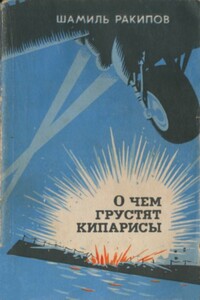
Вторая книга документально-художественного романа «Звёздные ночи» о лётчицах — Героях Советского Союза М. Сыртлановой, О. Санфировой, Р. Гашевой и других, которые, не щадя своей жизни, воевали с фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну.

Повесть о судьбе Героев Советского Союза, ровесников — украинца и татарина, которые вместе росли, учились, работали на шахте в Донбассе, вместе служили на погранзаставе, а затем героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
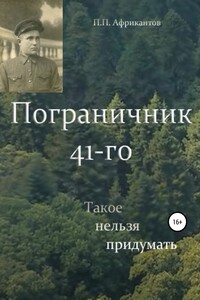
Герой повести в 1941 году служил на советско-германской границе. В момент нападения немецких орд он стоял на посту, а через два часа был тяжело ранен. Пётр Андриянович чудом выжил, героически сражался с фашистами и был участником Парада Победы. Предназначена для широкого круга читателей.
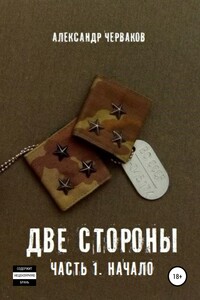
Простыми, искренними словами автор рассказывает о начале службы в армии и событиях вооруженного конфликта 1999 года в Дагестане и Второй Чеченской войны, увиденные глазами молодого офицера-танкиста. Честно, без камуфляжа и упрощений он описывает будни боевой подготовки, марши, быт во временных районах базирования и жестокую правду войны. Содержит нецензурную брань.
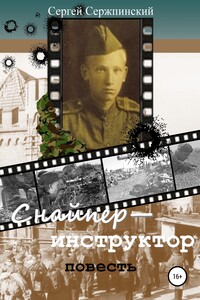
Мой отец Сержпинский Николай Сергеевич – участник Великой Отечественной войны, и эта повесть написана по его воспоминаниям. Сам отец не собирался писать мемуары, ему тяжело было вспоминать пережитое. Когда я просил его рассказать о тех событиях, он не всегда соглашался, перед тем как начать свой рассказ, долго курил, лицо у него становилось серьёзным, а в глазах появлялась боль. Чтобы сохранить эту солдатскую историю для потомков, я решил написать всё, что мне известно, в виде повести от первого лица. Это полная версия книги.
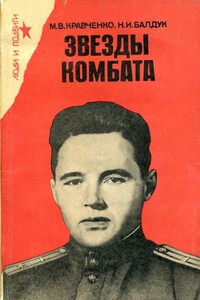
Книга журналиста М. В. Кравченко и бывшего армейского политработника Н. И. Балдука посвящена дважды Герою Советского Союза Семену Васильевичу Хохрякову — командиру танкового батальона. Возглавляемые им воины в составе 3-й гвардейской танковой армии освобождали Украину, Польшу от немецких захватчиков, шли на штурм Берлина.
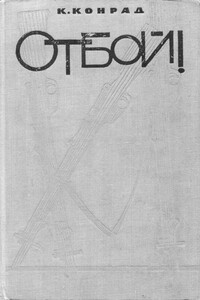
Антивоенный роман современного чешского писателя Карела Конрада «Отбой!» (1934) о судьбах молодежи, попавшей со школьной скамьи на фронты первой мировой войны.
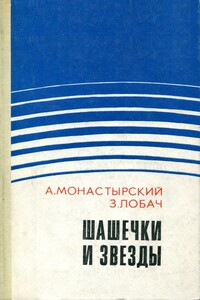
Авторы повествуют о школе мужества, которую прошел в период второй мировой войны 11-й авиационный истребительный полк Войска Польского, скомплектованный в СССР при активной помощи советских летчиков и инженеров. Красно-белые шашечки — опознавательный знак на плоскостях самолетов польских ВВС. Книга посвящена боевым будням полка в трудное для Советского Союза и Польши время — в период тяжелой борьбы с гитлеровской Германией. Авторы рассказывают, как рождалось и крепло братство по оружию между СССР и Польшей, о той громадной помощи, которую оказал Советский Союз Польше в строительстве ее вооруженных сил.