По обе стороны утопии - [19]
6. Жертва у А. Платонова
Если сама идея жертвы первоначально была связана с религией, то политические и идеологические представления о жертве XIX–XX веков сложились в другом контексте, который можно определить как сакрализацию прогресса. Показательны в этом отношении высказывания Гегеля, для которого мировая история является местом реализации свободы и духа. В лекциях по философии истории он говорит: «Эта конечная цель есть то, к чему направлялась работа, совершавшаяся во всемирной истории; ради нее приносились в течение долгого времени всевозможные жертвы на обширном алтаре земли»[124], а плацдарм истории становился «бойней, на которой приносятся в жертву счастье народов, государственная мудрость и индивидуальные добродетели»[125]. В марксизме эта оценка подкрепляется призывом к пониманию научной необходимости, которой должны быть подчинены все поступки[126].
С утверждением марксистской идеи в России на рубеже XX столетия возникает дискуссия о том, необходимо ли пойти на жертвы ради прогресса и будущего социального счастья. Решающий вопрос об оправдании жертв во имя истории поднимал еще Ницше: «Скажем, в нас есть стремление к самопожертвованию: что запретит нам тогда жертвовать вместе с собою и ближним? Ведь до сих пор именно так делали государство и монархи, принося одних граждан в жертву другим, как было принято говорить, „в общих интересах“. Но и у нас есть общие и, может быть, еще более общие интересы: почему же не принести в жертву грядущим поколениям некоторых индивидов из нынешнего?»[127]
Начало дискуссии о необходимости жертв во имя прогресса совпадает с концом революции 1905 года. Принципиальными противниками постницшеанской концепции жертвы выступали бывшие марксисты Сергей Булгаков и Николай Бердяев, противоположную позицию заняли Анатолий Луначарский, Максим Горький и Алексей Гастев. В своей книге «Религия и социализм» Луначарский, один из главных представителей богостроительства — течения, в котором смешались ницшеанские, христианские, мифологические и марксистские компоненты, — пропагандировал настоящий культ жертвоприношения. Так, в главе «Мифология труда» автор объединяет трех подвижников труда — Прометея, Геркулеса и Христа, причем закованный и измученный Прометей олицетворяет принцип разума, страдающий Геркулес репрезентирует угнетаемый труд, а Христос — грядущего мессию труда. Вот как описывается мученичество античного героя: «Страдает от унижений, вражды, хитрости. Его опутывают отравленной одеждой, которая связывает его крепче цепей, цепей, которые он порвал бы, ядовитая рубашка ест его тело, сушит его кровь. Он не выносит этой рубашки рабства на своем теле: он предпочитает смерть в пламени — рабству и медленной муке, но вот, как Феникс, из пламени смертельного борения он выходит для новой жизни, выходит победителем»[128].
Воскресший Геркулес вместе с освобожденным Прометеем, по мысли Луначарского, будут стоять у входа в храм нового человечества. В этом храме отводится место и Христу, мессии труда: «И на гору Голгофу всходит новый Мессия, кровь его лилась, его пригвождали к кресту. И глумясь говорили ему: „Ты, освободитель мира, освободись-ка сам из каторг тюрем и могил, куда уложили тебя за твои порывы“. Но нельзя убить Труд, он воскреснет и продолжит свою проповедь, свою тяжкую борьбу, он понесет снова свой крест, от Голгофы к Голгофе, по пути, уставленному крестами, ибо воистину не один раз умирает Спаситель Мира»[129].
Мотив Голгофы как метафоры «страстей» пролетариата восходит к движению голгофского христианства, в свое время влиятельного в среде пролетарской культуры. Это направление, зародившееся около 1905 года в петербургских рабочих кругах, требовало революционной социальной перестройки общества на основе Нового Завета[130]. Тем самым мотив Голгофы символизирует не только страдание, но и победоносное воскресение пролетариата.
В отличие от подобных христианских представлений, Максим Горький, примкнувший к богостроительству Луначарского в начале века, создал в повести «Старуха Изергиль» (1894) жертвенного героя Данко, представляющего собой нечто среднее между Прометеем и ницшеанским сверхчеловеком[131]. Данко ведет свой отчаявшийся, подобный стаду овец народ из темноты леса в свет. Вырывая сердце из груди, он освещает этим факелом людям дорогу. В конце легенды патетическими словами рассказывается о смерти красивого и сильного героя: «Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер»[132].
Такая же фигура, подобная Прометею, находится и в центре напыщенной поэмы Горького «Человек» (1904). Одинокий путник и потомок Заратустры поднимается все «выше и выше» в неизвестность для того, чтобы каждый стал Человеком с большой буквы. Для носителей трагического сознания победителями являются не те, кто пожинает плоды победы, но оставшиеся на поле битвы: «Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда»
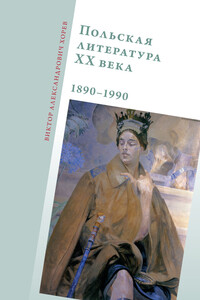
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
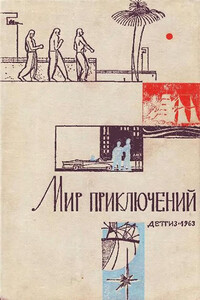
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
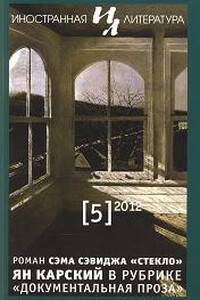
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.