Пляска Чингиз-Хаима - [3]
Гут намерен утешить шефа. Пытается обратить его внимание на то, что тут есть и приятная сторона:
— В любом случае это преступление века.
Шатц смотрит на него блеклыми глазками:
— Так всегда говорят.
Он прав. Гут малость переборщил. Это — преступление века? А что же тогда я?
— Так что мне сказать журналистам? — интересуется Гут. — Надо им что-то кинуть, а то они нас разнесут в клочки. Полиция бездействует… Власти спят…
— Да черт с ними, я привык, — бурчит Шатц. — Каждый раз, когда происходит какое-нибудь чудовищное преступление, виновата оказывается полиция. В первый раз, что ли… Вы изучили новые отпечатки?
— Те же самые. Мы сравнили их с отпечатками всех известных нам садистов, психов, сексуальных маньяков — никакого результата.
— Вот то-то и оно-то… Никаких улик, никаких мотивов и… двадцать два трупа! А можете вы мне сказать, отчего у всех жертв на лице такое восхищение, будто это самое лучшее, что случилось с ними в их сучьей жизни? Я ничего не понимаю! Ничегошеньки! Рожи просто сияют! Вы видели ветеринара? На морде такое блаженство, будто он на седьмом небе. В конце концов, это раздражает.
— Согласен, это вообще-то тревожно, — кивает Гут. — Да еще при такой жаре…
Да, стоит жара. Правда, в нынешнем моем состоянии — как бы это половчее выразиться? — определенного отсутствия физических характеристик — мы, евреи, всегда тяготели к абстракции — я абсолютно нечувствителен к температуре. Но после этой волны убийств в лесу Гайст[4] я ощущаю нечто не совсем обычное. Какое-то покалывание. Трепетание. Ласка. В воздухе чувствуется странное возбуждение, некая мягкая, жаркая и отзывчивая женственность. Даже свет кажется немножко чище, каким-то чуть-чуть ирреальным, ощущение, словно он тут только для того, чтобы окружить кого-то неведомого ореолом. Это не тот привычный природный свет, тут чувствуется человеческая рука, человеческий гений. Ловишь себя на том, что думаешь о Рафаэле, о сокровищах Флоренции, о магии Челлини и о наших божественных гобеленах, обо всех шедеврах, которые стольким обязаны искусству и так малым реальности. Впечатление, будто вокруг готовится своего рода апофеоз воображаемого и что очень скоро на этой земле не останется и следа постыдного, нечистого, несовершенного. Мазлтов, как говорят на идише, когда хотят сказать: мои поздравления. А если говорить обо мне, я всегда был за Джоконду.
— Сколько служу в полиции, никогда не видел таких счастливых трупов, — говорит Шатц. — На лицах райское блаженство. Иначе просто не скажешь. И тут возникает вопрос, и я думаю, в нем ключ к решению проблемы. Что видели эти сукины дети? Потому что им, перед тем как прикончить, показали что-то такой красоты… такой красоты…
Я обратил внимание, что писарь Хюбш проявляет все признаки возбуждения. Похоже, слово «красота» оказывает на него самое благотворное воздействие. Должно быть, несмотря на свой занюханный, нафталинный вид, он — натура мечтательная, нежная. Он явно взволнован. Брови его поднялись домиком над пенсне, отчего физиономия стала точь-в-точь как морда взгрустнувшего дога. Не ожидал я, что у этой канцелярской крысы могут быть какие-то безотчетные стремления.
— Во всех случаях никаких следов борьбы, — заметил Гут.
— То-то и оно. Можно подумать, что они сами просили пришить их. Рожи у всех просто сияющие… Что могли им показать, чтобы довести до такого состояния блаженства?
Хюбш привстал со стула и, подняв перо, заворожено уставился куда-то в пространство. Его кадык несколько раз судорожно дернулся над пристежным воротничком. Он сглатывает слюну. У него дрожит голова. Этот юноша меня таки очень беспокоит.
— Что на земле может быть такого прекрасного, чтобы, увидев это, люди шли на смерть с праздничным видом? Хюбш, по-вашему, что это? Друг мой, вы очень взволнованы. У вас есть какие-то соображения?
Хюбш опускается на стул, вытирает перо о волосы и утыкается носом в бумаги. Чего-то скребет перышком. Уверен на все сто, он еще ни разу не знал женщины.
— Химические анализы провели? Возможно, их напичкали наркотиками. Сейчас появились новые галлюциногены, например, ЛСД, мексиканские грибы, которые вызывают, говорят, волшебные видения. Это бы все объяснило.
Но Гут развеивает надежды комиссара.
— Никаких следов наркотиков, — говорит он.
— Но есть ведь такие, которые не поддаются анализу, сами знаете… Кажется, будто видишь Бога… всякие такие штучки…
— Не думаю, чтобы Бог имел к этому какое-то отношение.
— В любом случае убиты все они были в состоянии полнейшего экстаза, — мрачно отмечает Шатц. — Что-то в этом есть мистическое. Ритуальные убийства?
— Ну, вы хватили. Мы все-таки не у ацтеков. Человеческие жертвоприношения в Германии… Вы шутите…
И тут Шатц выдает фразу просто немыслимую, невероятную, особенно в устах друга.
— По своему опыту, — торжественно возвещает он, — могу сказать одно: впервые некто совершает массовое убийство без всяких мотивов, без всякой видимой причины.
Ну, хватит. Подобную хуцпе нельзя оставлять без ответа. Едва я услышал, что, по его опыту, это впервые в Германии кто-то устраивает массовые убийства без видимой причины, я почувствовал себя уязвленным. И я проявился. Я встал перед комиссаром, руки за спиной. Должен с гордостью признаться, на него это произвело впечатление. На мне длинное черное пальто, под ним полосатая лагерная куртка, на пальто слева, как положено, желтая звезда. Я знаю, лицо у меня бледное — попробуйте быть смельчаком, когда на вас нацелены автоматы, да и команда «Feuer!» тоже производит неизгладимое впечатление, — весь я с головы до пят в известке: лицо, волосы, пальто, короче, все. Чтобы символически наказать нас, нам приказали выкопать себе яму в развалинах дома, разбомбленного авиацией союзников, и потом некоторое время мы всем скопом оставались там. Именно там Шатц, сам о том не ведая, и подцепил меня; не знаю, что стало с остальными, кто из немцев приютил их в себе. Волосы у меня встали дыбом, как и у Харпо Маркса, каждый волосок отдельно; поднялись они от ужаса да так и остались навечно, словно бы для создания художественного эффекта. Правда, причина этого не только страх, но и шум. Я не выношу шума, а все эти еврейские матери с младенцами на руках подняли жуткий вой. Не хочу выглядеть антисемитом, но никто так не воет, как еврейская мать, когда убивают ее детей. А у меня с собой не было даже воска, чтобы заткнуть уши, я оказался совершенно беззащитен.

Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.Перевод с французского Елены Погожевой.

Роман «Пожиратели звезд» представляет собой латиноамериканский вариант легенды о Фаусте. Вот только свою душу, в существование которой он не уверен, диктатор предлагает… стареющему циркачу. Власть, наркотики, пули, смерть и бесконечная пронзительность потерянной любви – на таком фоне разворачиваются события романа.

Роман «Корни неба» – наиболее известное произведение выдающегося французского писателя русского происхождения Ромена Гари (1914–1980). Первый французский «экологический» роман, принесший своему автору в 1956 году Гонкуровскую премию, вводит читателя в мир постоянных масок Р. Гари: безумцы, террористы, проститутки, журналисты, политики… И над всем этим трагическим балаганом XX века звучит пронзительная по своей чистоте мелодия – уверенность Р. Гари в том, что человек заслуживает уважения.
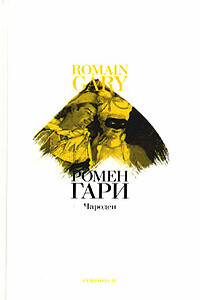
Середина двадцатого века. Фоско Дзага — старик. Ему двести лет или около того. Он не умрет, пока не родится человек, способный любить так же, как он. Все начинается в восемнадцатом столетии, когда семья магов-итальянцев Дзага приезжает в Россию и появляется при дворе Екатерины Великой...

Пронзительно нежная проза, одна из самых увлекательных литературных биографий знаменитого французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Р. Гари.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Американка Селин поступает в Гарвард. Ее жизнь круто меняется – и все вокруг требует от нее повзрослеть. Селин робко нащупывает дорогу в незнакомое. Ее ждут новые дисциплины, высокомерные преподаватели, пугающе умные студенты – и бесчисленное множество смыслов, которые она искренне не понимает, словно простодушный герой Достоевского. Главным испытанием для Селин становится любовь – нелепая любовь к таинственному венгру Ивану… Элиф Батуман – славист, специалист по русской литературе. Роман «Идиот» основан на реальных событиях: в нем описывается неповторимый юношеский опыт писательницы.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Мы приходим в этот мир ниоткуда и уходим в никуда. Командировка. В промежутке пытаемся выполнить командировочное задание: понять мир и поделиться знанием с другими. Познавая мир, люди смогут сделать его лучше. О таких людях книги Д. Меренкова, их жизни в разных странах, природе и особенностях этих стран. Ироничность повествования делает книги нескучными, а обилие приключений — увлекательными. Автор описывает реальные события, переживая их заново. Этими переживаниями делится с читателем.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.
