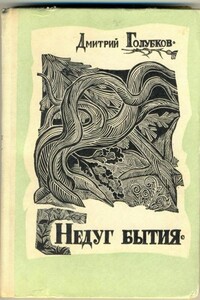Пленный ирокезец - [35]
— За что, Александр Иваныч? — участливо спросил Ленц.
— Пуговица оторвалась! Амуниция, вишь, не в порядке! А черт с ней, с амуницией! Надоела, постылая!
Он ожесточенно рванул на себе мундир и, шатаясь, выбежал на крыльцо.
— Погодите, Александр Иваныч! Нельзя же так, Александр Иваныч! — кричал вослед Ленц. Но Полежаев не отвечал: Клейкие осенние сумерки поглотили его.
Наутро он не явился в казарму. На Сухаревском подворье продал мундир, шинель, кивер. Штопаные трикотовые панталоны и старая фланелевая рубашка не грели; дрожа от промозглого холода, он выбрался переулками к Сретенке и спустился по ослизлым ступеням в извозчичий кабак.
Пил обстоятельно, не торопясь, почти не хмелея, и все рассматривал что-то на голой каменной стене. И только когда подсел молодой скуластый парень в бедном потертом сюртуке и щегольской фуражечке, сдвинутой набекрень, вскинул голову:
— Студент?
— Точно так, — весело ответствовал тот, жадно жуя кус жилистой говядины.
— Ты выпей, — Полежаев придвинул чистый стакан, налил до половины. Студент охотно принял, но заметил шутливо:
— Что ж неполно льешь, дяденька?
Полежаев опять кивнул — ласково и хмуро:
— Много нельзя. Наука в ум не пойдет… Стихи небось сочиняешь?
— А как же!
— А я, брат, всё! Финита ля музыка… Как Александр Сергеич закатился — всё… Последняя звезда погасла. Понимаешь? И в России погасла, и в душе моей.
Он уронил голову на залитую пивом скатерть и заплакал безмолвно. Студент тронул его за плечо:
— Не расстраивайся, дяденька. Не оскудела Русь. Вот Полежаев, говорят, жив…
Он вскинулся радостно, глаза засияли восторгом и грозной удалью.
— Жив, говоришь? Правда жив?
И, кликнув полового, до утра пил со студентом, наливая ему уже по полному стакану, за здоровье поэзии российской, за долгую жизнь бывшего студента Сашки Полежаева.
На этот раз никто уж за него не вступился.
Секли истово: сам генерал надзирал. Но судьба и тут смилостивилась: с десятого удара впал в беспамятство и страданий почти не ощутил. Только потом больно было: всю спину, все бока занозило, розги скверные достались, пересохлые.
Он просил санитара, смущенно улыбаясь:
— Братец, поищи в спине. Колется, стерва… — И шутил, подбодряя неловкого деревенского парня в грязнобелом халате — Вишь, кожу-то продубили. Теперь без износу буду…
Перед смертью подозвал доктора. Еле шевеля сизыми, искусанными губами, попросил:
— Причаститься… желаю… С нею там встречусь. Она пречистая. А я яко пес… смердящий…
— Он бредит, — сказал доктор. — Дайте ему нашатырю.
Лозовский, расталкивая караульных и дежурных, ворвался в солдатский лазарет.
— Он свободен, свободен! — тихо выкрикивал он, размахивая бумагой. — Только б выздороветь теперь…
— К больным не пущают, — сказал дежурный, мощным торсом загораживая дорогу щуплому чиновнику с белесым коком.
— Врешь, брат, пустишь! — задорно крикнул Лозовский, тыча под нос стражу развернутый лист с вензелями и двуглавой печатью. — Свободен! Вот, — в прапорщики произведен! Добились-таки добрые люди… — Он перевел дух и укорил мягко — А ты, братец, над ним смеялся. Не верил, что он из благородных…
— Хто? Полежаев-то? — спросил дюжий санитар. — Вчерась помер.
Лозовский привалился к дверному косяку, умоляюще уставился на дежурного. Тот хмуро отвел взгляд, пробормотал недовольно:
— Что смотришь, вашблагородье… В одночасье и помер. Тихонечко. Легко помер. Вы, ваше благородие, может, пойдемте. Опознаете. Мы их всех вместе складаем. В подвале.
Лозовский, пригнув голову, прошел под низкий каменный свод, покрытый зеленоватой бородавчатой слизью. Дюжий санитар дал ему фонарь. Свет оплывшего огарка еле пробивался сквозь пыльное стекло,
— Здесь постойте. Там нехорошо.
Два санитара скрылись за дощатой дверью. Он ждал, зачем-то считая вслух:
— Раз, два, три, четыре…
Санитары, гулко бухая сапогами, воротились с носилками, прикрытыми драной рогожей.
Лицо покойного было строго и странно моложаво. Опущенные веки были выпуклы и велики, что придавало лицу выражение насмешливое. Но тонкие писаные брови хмурились строго, скорбно.
Санитар, хмыкнув, спросил:
— Он, что ли?
— Он, — тихо ответил Лозовский.

В очередной книге Феликса Фельдмана «Времена» охвачено время почти столетнего периода жизни Европы. В повести «Юбилей» на примере судеб отдельных семей в Берлине и судеб евреев одной из провинций Германии рассказывается о формах и методах геноцида еврейского населения страны, участия их сограждан в политике нацизма, а также об отношении современного молодого поколения страны к этому преступлению. В большинстве рассказов – продолжение темы жизни еврейства периода Второй мировой войны и после неё в СССР.

Все слабее власть на русском севере, все тревожнее вести из Киева. Не окончится война между родными братьями, пока не найдется тот, кто сможет удержать великий престол и возвратить веру в справедливость. Люди знают: это под силу князю-чародею Всеславу, пусть даже его давняя ссора с Ярославичами сделала северный удел изгоем земли русской. Вера в Бога укажет правильный путь, хорошие люди всегда помогут, а добро и честность станут единственной опорой и поддержкой, когда надежды больше не будет. Но что делать, если на пути к добру и свету жертвы неизбежны? И что такое власть: сила или мудрость?
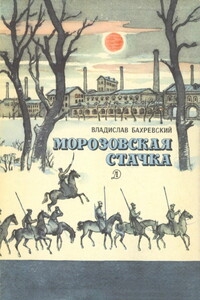
Повесть о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году в городе Орехове-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова.

Исторический роман о борьбе народов Средней Азии и Восточного Туркестана против китайских завоевателей, издавна пытавшихся захватить и поработить их земли. События развертываются в конце II в. до нашей эры, когда войска китайских правителей под флагом Желтого дракона вероломно напали на мирную древнеферганскую страну Давань. Даваньцы в союзе с родственными народами разгромили и изгнали захватчиков. Книга рассчитана на массового читателя.

В настоящий сборник включены романы и повесть Дмитрия Балашова, не вошедшие в цикл романов "Государи московские". "Господин Великий Новгород". Тринадцатый век. Русь упрямо подымается из пепла. Недавно умер Александр Невский, и Новгороду в тяжелейшей Раковорской битве 1268 года приходится отражать натиск немецкого ордена, задумавшего сквитаться за не столь давний разгром на Чудском озере. Повесть Дмитрия Балашова знакомит с бытом, жизнью, искусством, всем духовным и материальным укладом, языком новгородцев второй половины XIII столетия.

Лили – мать, дочь и жена. А еще немного писательница. Вернее, она хотела ею стать, пока у нее не появились дети. Лили переживает личностный кризис и пытается понять, кем ей хочется быть на самом деле. Вивиан – идеальная жена для мужа-политика, посвятившая себя его карьере. Но однажды он требует от нее услугу… слишком унизительную, чтобы согласиться. Вивиан готова бежать из родного дома. Это изменит ее жизнь. Ветхозаветная Есфирь – сильная женщина, что переломила ход библейской истории. Но что о ней могла бы рассказать царица Вашти, ее главная соперница, нареченная в истории «нечестивой царицей»? «Утерянная книга В.» – захватывающий роман Анны Соломон, в котором судьбы людей из разных исторических эпох пересекаются удивительным образом, показывая, как изменилась за тысячу лет жизнь женщины.«Увлекательная история о мечтах, дисбалансе сил и стремлении к самоопределению».