Плексус - [4]
Когда бы нас с Моной ни навещал Ульрик (а бывало это обычно по субботам и воскресеньям), я тут же вытаскивал его из дому – побродить по местам моих ранних лет. Знакомый с ними с детства, как и я, Ульрик в таких случаях предусмотрительно захватывал с собой тетрадь для эскизов – сделать, как он выражался, «пару почеркушек». Меня восхищала легкость, с какой он действовал кистью и карандашом. И в голову не приходило, что однажды наступит день, когда я сам примусь делать то же. Ведь он был художником, а я – писателем (во всяком случае, лелеял надежду рано или поздно стать таковым). Блистательный мир живописи представал мне страной пленительного волшебства, вход в которую был для меня раз и навсегда заказан.
Хотя за протекшие годы Ульрику так и не довелось снискать признания у собратьев по ремеслу, его отличало утонченное знание мира искусства. Никто лучше его не мог говорить о любимых живописцах. В ушах у меня и по сей день звучат обрывки его долгих красноречивых рассуждений о таких мастерах, как Чимабуэ, Уччелло, Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Вермеер – всех не перечесть. Мы могли часами разглядывать альбом репродукций какого-нибудь из гигантов прошлого. Разглядывать, анализируя – вернее, анализировал он, а я слушал – достоинства одного-единственного полотна того или иного художника. Думаю, так тепло и проникновенно говорить о мастерах Ульрик мог потому, что сам был непритворно скромен и безраздельно предан искусству. Скромен и предан в подлинном смысле слова. Для меня не подлежит сомнению, что в душе и он был мастер. И хвала господу, так и не утратил своей способности преклоняться и боготворить. Ибо воистину редки те, кто от рождения наделен этим талантом.
Подобно детективу О’Рурку, Ульрик мог в самый неподходящий момент, застыв на месте, вслух восхищаться тем, чего любой другой не заметил бы. Случалось, во время нашей прогулки по набережной он вдруг остановится, укажет на какой-нибудь непрезентабельный, облупившийся фасад, а то и просто на обломок стены, и пустится в восторженный монолог о том, как изысканно они контрастируют с небоскребами на противоположном берегу или с устремившимися в небо мачтами судов у причала. Термометр мог быть на нуле, нас мог до костей пронизывать ледяной ветер – Ульрику все было нипочем. В такие минуты он с пристыженным видом извлекал из кармана какой-нибудь смятый конверт и огрызком карандаша делал «почеркушки». Не помню, правда, чтобы позднее эти наброски во что-то воплощались. По крайней мере, тогда. Те, кто снабжал Ульрика заказами (на эскизы абажуров, этикетки банок с консервированными бананами, помидорами и тому подобным), постоянно висели у него на хвосте.
А в перерывах между этими «трудами» он был горазд уламывать друзей – и особенно подруг – позировать ему в мастерской. В промежутках между заказами Ульрик писал яростно и самозабвенно, словно готовясь выставляться в Салоне[4]. Когда он оказывался перед мольбертом, на него внезапно находили все странности и причуды, отличающие подлинного маэстро. Энергия, с какой он набрасывался на холст, внушала священный ужас. Итоги же, как ни странно, всегда обескураживали. «Пропади все пропадом, – говорил он в полном отчаянии, – я всего-навсего безнадежный иллюстратор». Как сейчас, вижу его рядом с одной из его законченных – и неудавшихся – работ: он тяжело вздыхает, стонет, исходит желчью, рвет на себе волосы. Протягивает руку к альбому картин Сезанна, вглядывается в одно из любимых своих полотен, затем невесело усмехается, возвращаясь взглядом к собственному детищу: «Ну почему, черт возьми, хоть раз в жизни не дано мне написать ничего такого? Что мне мешает, как ты думаешь? О господи…» И издает безнадежный вздох, а подчас и нескрываемый стон.
– Знаешь что, давай выпьем? Что проку состязаться с Сезанном? Я знаю, Генри, знаю, где собака зарыта. Суть дела – не в этой картине и не в той, что я писал до нее, а в том, что все в моей жизни шиворот-навыворот. Ведь творчество – не что иное, как отражение самого творца, того, что он изо дня в день чувствует и думает, не правда ли? А что я такое с этой точки зрения? Старая калоша, которой давно пора на помойку, разве нет? Вот ведь как обстоит! Ну, за помойку! – И поднимает стакан, с болью, с неподдельной болью сжав губы.
Ценя в Ульрике его непритворное преклонение перед большими мастерами, полагаю, я восхищался еще и тем, сколь успешно он исполнял роль вечного неудачника. Не знаю никого другого, кому удавалось бы так высвечивать в своих постоянных крушениях и провалах некое подобие величия. Можно сказать, он обладал неповторимым даром заставить собеседника почувствовать, что, возможно, лучшее в жизни, помимо художнического триумфа, – это тотальное поражение.
Не исключено, что так оно и есть. Грехи Ульрика искупало полное отсутствие в нем творческого честолюбия. У него не было жгучей потребности в публичном признании; быть хорошим художником он стремился во имя чистой радости творения. Хорошее, только хорошее – вот все, что импонировало ему в жизни. Он был сенсуалистом до мозга костей. Играя в шахматы, Ульрик неизменно предпочитал набор фигур китайской работы – притом что играл он из рук вон плохо. Просто прикасаться пальцами к изящным фигуркам из слоновой кости доставляло ему несказанное удовольствие. Помню, как мы шныряли по музеям в поисках антикварных шахматных досок и наборов. Доведись Ульрику сесть за доску, некогда украшавшую стену средневекового замка, – и он был бы счастлив до небес, не важно, одержал бы верх над противником или проиграл. Все, чем пользовался, он выбирал с величайшей тщательностью: одежду, саквояжи, домашние туфли, настольные лампы – все без исключения. А выбрав, холил и лелеял избранное, как живое существо. О своих приобретениях он говорил, как другие говорят о любимых животных, даря им нешуточную долю своего душевного тепла, даже когда вокруг не было посторонних. Если подумать, прямая противоположность Кронски. Тот, бедолага, влачил свои дни среди барахла, выброшенного за ненадобностью его предками. Ничто для него не представляло ценности, не было наделено смыслом или значением. Все у него в руках разваливалось, крошилось, рвалось и засаливалось. И тем не менее в один прекрасный день (я так и не понял, как это случилось) Кронски начал писать. И начал с блеском. С таким блеском, что я едва верил своим глазам. Кронски предпочитал яркие, светоносные краски, будто сам он только что прибыл из России. Дерзостью и самобытностью отличались и темы его картин. Он писал по восемь-десять часов кряду, погружаясь в это занятие без остатка и без устали напевая, насвистывая, пританцовывая, даже аплодируя самому себе. К несчастью, в его биографии это оказалось лишь мимолетной вспышкой. Спустя несколько месяцев она безвозвратно угасла. Не помню, чтобы после этого он когда-нибудь вымолвил хоть слово о живописи. Похоже, начисто забыл, что вообще держал в руках кисть…

«Тропик Рака» — первый роман трилогии Генри Миллера, включающей также романы «Тропик Козерога» и «Черная весна».«Тропик Рака» впервые был опубликован в Париже в 1934 году. И сразу же вызвал немалый интерес (несмотря на ничтожный тираж). «Едва ли существуют две другие книги, — писал позднее Георгий Адамович, — о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера „Тропик Рака“ и „Тропик Козерога“».К сожалению, людей, которым роман нравился, было куда больше, чем тех, кто решался об этом заявить вслух, из-за постоянных обвинений романа в растлении нравов читателей.
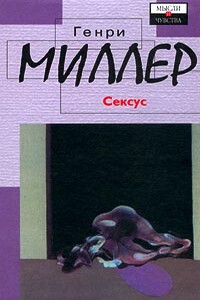
Генри Миллер – классик американской литературыXX столетия. Автор трилогии – «Тропик Рака» (1931), «Черная весна» (1938), «Тропик Козерога» (1938), – запрещенной в США за безнравственность. Запрет был снят только в 1961 году. Произведения Генри Миллера переведены на многие языки, признаны бестселлерами у широкого читателя и занимают престижное место в литературном мире.«Сексус», «Нексус», «Плексус» – это вторая из «великих и ужасных» трилогий Генри Миллера. Некогда эти книги шокировали. Потрясали основы основ морали и нравственности.

Секс. Смерть. Искусство...Отношения между людьми, захлебывающимися в сюрреализме непонимания. Отчаяние нецензурной лексики, пытающейся выразить боль и остроту бытия.«Нексус» — такой, каков он есть!

«Черная весна» написана в 1930-е годы в Париже и вместе с романами «Тропик Рака» и «Тропик Козерога» составляет своеобразную автобиографическую трилогию. Роман был запрещен в США за «безнравственность», и только в 1961 г. Верховный суд снял запрет. Ныне «Черная весна» по праву считается классикой мировой литературы.

«Тропик Козерога». Величайшая и скандальнейшая книга в творческом наследии Генри Миллера. Своеобразный «модернистский сиквел» легендарного «Тропика Рака» — и одновременно вполне самостоятельное произведение, отмеченное не только мощью, но и зрелостью таланта «позднего» Миллера. Роман, который читать нелегко — однако бесконечно интересно!
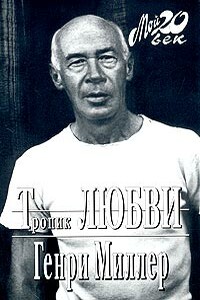
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия... Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами.

Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа «Письма к незнакомке» и «Превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа – знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда – чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.

Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Завтрак у Тиффани» (повесть, прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), «Голоса травы», «Другие голоса, другие комнаты», «Призраки в солнечном свете» и прочих, входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением Капоте многие считают роман «Хладнокровное убийство», основанный на истории реального преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и психологического феномена.

Роман «Школа для дураков» – одно из самых значительных явлений русской литературы конца ХХ века. По определению самого автора, это книга «об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности… который не может примириться с окружающей действительностью» и который, приобщаясь к миру взрослых, открывает присутствие в мире любви и смерти. По-прежнему остаются актуальными слова первого издателя романа Карла Проффера: «Ничего подобного нет ни в современной русской литературе, ни в русской литературе вообще».