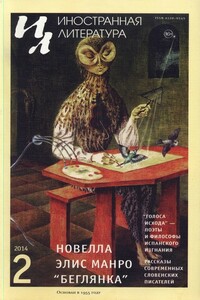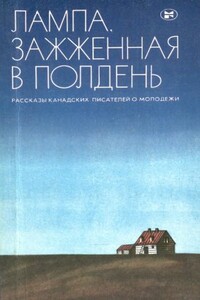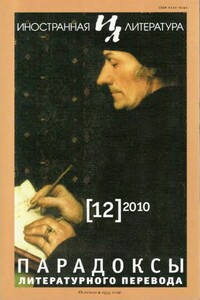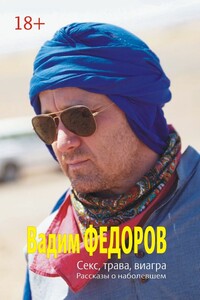Питер принес ее чемодан в купе и как-то засуетился. Впрочем, он тут же объяснил, что вовсе не торопится от нее убежать — просто боится, как бы поезд не тронулся. Он вышел на перрон, встал под окном купе и принялся махать рукой. Улыбаться и махать. Улыбка, предназначенная Кейти, была широкая, солнечная, без тени сомнения, будто он верил, что дочь всегда так и будет чудом для него, а он — для нее. На всю жизнь. Улыбка, предназначенная жене, была словно исполнена веры и надежды, с толикой решимости. Пожалуй, эту улыбку непросто было бы выразить словами. Может, и вовсе невозможно. Скажи Грета что-нибудь такое, он ответил бы: «Не придумывай». И она согласилась бы — решила бы, что для людей, живущих бок о бок день ото дня, всякие объяснения бессмысленны.
Когда Питер был еще ребенком, мать перетащила его через горы — Грета никак не могла запомнить их название. Мать Питера бежала из социалистической Чехословакии на Запад. Не одна, конечно. Отец Питера собирался идти с той же группой, но его отправили в лечебницу как раз накануне их тайного отбытия. Он должен был последовать за ними, когда получится, но вместо этого умер.
— Я читала про такое, — сказала Грета, когда Питер впервые поведал ей эту историю. И добавила, что в книгах ребенок обязательно начинал плакать и матери приходилось его задушить, чтобы он своим плачем не выдал всю группу.
Питер сказал, что никогда не слыхал подобного и не знает, что сделала бы его мать в такой ситуации.
На самом деле его мать сделала вот что: уехала в Британскую Колумбию, подучила английский и нашла работу преподавателя. Она преподавала в старших классах школы то, что тогда называлось «Нормами делового оборота». Она вырастила Питера одна и отправила в университет, и он стал инженером. Приходя в гости к Питеру и Грете — сперва в квартиру, потом в дом, — мать всегда сидела в гостиной и не заходила на кухню, пока Грета не приглашала ее туда зайти. Такой уж у матери был обычай. Она довела до крайности искусство не замечать. Не замечать, не вмешиваться, не намекать. Хотя в любой области домашнего хозяйства, домашнего искусства намного опережала невестку.
И еще она избавилась от квартиры, в которой Питер вырос, и переехала в другую, поменьше, где не было отдельной спальни — только место для раскладного дивана. «Значит, Питер теперь не сможет погостить дома у мамочки?» — поддразнивала ее Грета, но мать эти шутки явно ошарашивали. Даже причиняли ей боль. Может быть, все дело в языковом барьере. Но мать теперь все время говорила по-английски, а Питер так и вовсе никакого другого языка не знал. Он тоже изучал «Нормы делового оборота» — правда, не у матери, — пока Грета проходила «Потерянный рай». Она избегала всего полезного, как чумы. Он, кажется, поступал в точности наоборот.
Теперь их разделяло стекло, Кейти упорно продолжала махать, и они самозабвенно изображали на лицах комическую и даже отчасти безумную благожелательность. Грета подумала о том, какой он красивый и насколько сам об этом не подозревает. Он стригся под ежик, в духе времени, — собственно, для инженера и тому подобных профессий выбора и не было. У него была светлая кожа, и он никогда не краснел, в отличие от Греты, никогда не шел пятнами от солнца, а лишь покрывался ровным легким загаром независимо от времени года.
Его мнения были чем-то сродни его цвету лица. После похода в кино его никогда не тянуло обсуждать фильм. Он только говорил, что фильм отличный, или хороший, или ничего так. Просто не видел смысла углубляться в рассуждения. Он и телепередачи смотрел, и книги читал так же. Относился к авторам с пониманием. Они ведь сделали все, что могли, в пределах своих возможностей. Раньше Грета начинала с ним спорить и сердито спрашивала: вот если бы дело касалось моста, он бы то же самое сказал? Что люди сделали все, что могли, в пределах своих возможностей, но этого оказалось недостаточно, и мост рухнул.
Но он не спорил с ней, а только смеялся.
И говорил, что это совсем другое.
Другое?
Другое.
Грете следовало бы понять, что такой взгляд на жизнь — терпеливый, прощающий — большая удача для нее. Ведь она была поэтом, и в ее стихах попадались вещи отнюдь не бодрые, а также труднообъяснимые.
(Мать и коллеги Питера — кто знал — до сих пор говорили «поэтесса». Питера она отучила от этого слова. Больше никого учить не пришлось. Ни родственники, от которых Грета отделалась, ни люди, с которыми она общалась теперь в роли жены и матери, ничего не знали об этой ее небольшой странности.)
Потом, позже, ей трудно будет объяснять, что было принято в то время и что нет. Можно сказать, что да, феминизм был не принят. Но тут же пришлось бы объяснять, что тогда и слова-то такого не знали — «феминизм». А дальше увязнешь в подробностях: тогда любая серьезная мысль у женщины, не говоря уже о карьерных устремлениях или чтении настоящих книг, могла стать поводом для подозрений. Или причиной того, что когда-нибудь потом у твоего ребенка было воспаление легких. А твое замечание о политике на корпоративном вечере могло стоить твоему мужу продвижения по службе. Даже не важно, что́ именно ты сказала и про какую партию. Важен сам факт того, что у женщины с уст сорвались такие слова.