Писатели-«деревенщики» - [2]
Большая часть этой книги была написана во время трехлетней докторантуры в Центре теоретико-литературных и междисциплинарных исследований Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН[4]. Мне бы хотелось поблагодарить коллег – Александра Панченко, Валерия Вьюгина, Кирилла Анисимова, Сергея Штыркова, Валентина Головина, Игоря Кравчука – за благожелательный интерес к этой работе и выразить самую искреннюю признательность моему научному консультанту Константину Богданову. Я очень многим обязана его точным и тонким советам, комментариям, неизменно дружественной помощи. За возможность публикации в «Новом литературном обозрении» – самая искренняя благодарность Ирине Прохоровой.
Глава I
«Я КОНСЕРВАТОР. ОТЪЯВЛЕННЫЙ РЕТРОГРАД»: «НЕОПОЧВЕННИЧЕСКИЙ» ТРАДИЦИОНАЛИЗМ – РЕВОЛЮЦИЯ И РЕАКЦИЯ
«Деревенская проза» как объект критических проекций
О «деревенщиках» написано и сказано так много, что очередное обращение к этой теме требует пояснений. Внимание к «неопочвенничеству» в «долгие 1970-е» и первое постсоветское десятилетие, конечно, проистекало из особого статуса этого направления в отечественной литературе. Высказываемое горячими поклонниками «деревенской прозы» мнение о том, что она – самое талантливое, самое достойное из созданного в позднесоветский период, распространялось тем шире, чем сильнее было желание значительной части интеллигенции, с одной стороны, найти противовес производимым в массовых масштабах стандартным «советским текстам», а с другой стороны, спасти от девальвации «ценности высокой культуры». Неудивительно, что произведения «деревенской прозы» филологами были прочитаны довольно подробно, а главным ее представителям посвящены не единичные монографические исследования. На рубеже 1980 – 1990-х годов в ситуации смены политической конъюнктуры авторитет «деревенщиков» был поколеблен, интерес к их сочинениям заметно пошел на спад, однако завершение периода реформ и переход к «стабильности» совпали с появлением, казалось бы, более взвешенных, примиряющих оценок. Когда в начале 2000-х годов экспертам (искусствоведам, философам, психологам, культурологам) был задан вопрос о художественно состоятельных именах и произведениях 1970-х, многие вспомнили Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, оговорившись, что не относят их «ни к официальной, ни к неофициальной, а точнее оппозиционной культуре»[5]. Конечно, в 2000-е годы бывших «деревенщиков» к востребованным писателям могли причислить только их самые преданные поклонники, но именно в ХХI веке началась очередная волна официального признания «деревенской прозы». Если учитывать только самые крупные государственные премии и награды, то выяснится, что В. Распутин в 2003 году получил премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, в 2010 – премию Правительства России за выдающиеся заслуги в области культуры, еще через два года – Государственную премию Российской Федерации за достижения в области гуманитарной деятельности за 2012 год. В 2003 году лауреатами Государственной премии Российской Федерации стали В. Астафьев (посмертно) и Василий Белов, последний в том же 2003 удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Связать присвоение «деревенщикам» череды государственных премий с сегодняшней популярностью их произведений невозможно, ибо такая популярность – дело «давно минувших дней», она пришлась на 1970 – 1980-е годы. Но чем же тогда руководствовалось экспертное сообщество, отдавая предпочтение тому или иному автору-«деревенщику»? Среди мотивов можно предположить лестное, например, для того же Распутина ретроспективное признание его литературных заслуг вне зависимости от актуальной общественно-политической повестки. Вот только премия, особенно присуждаемая государством, редко бывает проявлением бескорыстной любви к искусству, ибо прежде всего она нацелена на легитимацию определенных культурно-идеологических установок и ценностей, в данном случае – на «продвижение» и утверждение очередной версии традиционализма. Взволнованная реакция журналиста информационного портала «Русская народная линия» на известие о присуждении Распутину Государственной премии наглядно это демонстрирует:
Неужели что-то существенно повернулось в сознании тех, от кого зависит выстраивание идеологии нашего государства и нашего народа? Неужели духовными и нравственными приоритетами в современной России становятся традиционные ценности русского народа и выдающиеся соотечественники, их исповедующие и утверждающие во всех сферах повседневной жизни страны?
Хотелось бы в это верить! Тем более что совсем еще недавно Валентин Распутин воспринимался и подавался на страницах очень многих влиятельных изданий и на экранах федеральных телеканалов со скепсисом и издевкой – как уходящая фигура застойного и преступного режима, как представитель сомнительного патриотического лагеря, давно уже не влияющий на современную интеллектуальную жизнь России
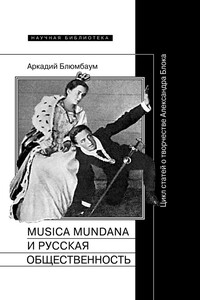
В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».
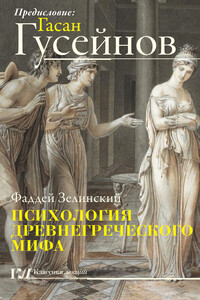
Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.
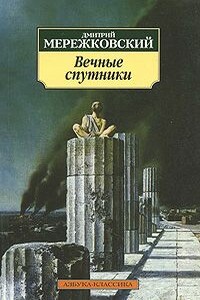
«… Предлагаемое издание состоит из рада критических очерков. Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какой-либо стороны, течения, момента во всемирной литературе, цель его – откровенно субъективная. Прежде всего желал бы он показать за книгой живую душу писателя – своеобразную, единственную, никогда более не повторявшуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души – иногда отделенной от нас веками и народами, но более близкой, чем те, среди кого мы живем, – на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, как представителя известного поколения.
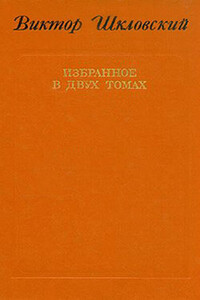
«… Книга, которую я к старости своей пишу, названа «Энергией заблуждения».Это не мои слова, это слова Толстого.Он жаждал, чтобы эти заблуждения не прекращались. Они следы выбора истины. Это поиски смысла жизни человечества.Мы работаем над черновиками, написанными людьми. К сожалению, я не знаю начала этого искусства, а доучиваться поздно. Время накладывает железные путы.Но я хочу понять историю русской литературы как следы движения, движения сознания, – как отрицание. …».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.