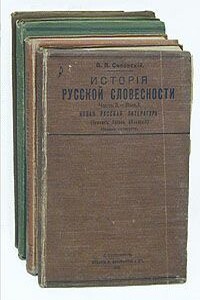Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты - [18]
На наших глазах растут и расцветают новые люди.
Даже конспиративная фантазия Сталина предпочитает созидать новые формы из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избытка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных имен. Из отчества Баграмяна — Христофорович — возник Христофоров, а из отчества Жукова — Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Александр Василевский — Александровым, Климент (Клим) Ворошилов — Климовым[81] и т. п.
Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:
Каменевщина периода апреля 1917 года — вот что тянет вас за ноги, т. Покровский.
То есть «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет за ноги утопленника.
Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспомнить «Звезду», перенесшую кучу конфискаций.
Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к звездам», тогда как «куча конфискаций» представляет собой, вероятно, прямое видение газетных кип, конфискованных полицией.
Сопричастность вместо аналогий
За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культурные, ментальные и политические притяжения, взывающие к реконструкции в рамках более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о некоторых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и меньшевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движений. Оплодотворенный семинарией жречески-наставительный слог Сталина мог так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм отличался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организационной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягчению суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевистскому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжиганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее морально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность — эмоциональную, текучую и хаотическую, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группировок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.
Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, подбирал для всякого данного этапа предуказанного социального развития ближайшее соответствие на исторической шкале[82]. Традиция пришла с Запада, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь придавало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у большевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных российских событий с Великой французской революцией, 1848 годом, Парижской коммуной и т. п. (уже в 1920‐е годы такие параллели — преимущественно между сталинским режимом и «термидором» — возлюбил Троцкий), но эксплуатировались они все же гораздо реже и почти исключительно в ритуальных или полемических целях. Мало затронула большевизм и древнехристианская традиция аллегорического «прообразования». Сама эта манера была принципиально чужда ленинскому направлению, упорно претендовавшему на живую, диалектическую динамику, открытость и злободневность. Так, говоря о своем режиме, Ленин называет его прямым «продолжением», а вовсе не аналогом Парижской коммуны. Соответственно, и Сталин объявляет последнюю не прообразом, а «зародышем» советской власти. Видимо, это была действительно общая черта большевистской поэтики, присущая и тем, кто, как А. Богданов, призывал «освободить большевизм от ленинизма». Скажем, в программно-«впередовской» статье «Социализм в настоящем» (конец 1910 года) он пишет, что пролетарская организованность и сотрудничество — «не прообраз социализма, а его истинное начало»[83]. Бухарин в 1922 году высмеивает свойственный «социал-демократическим талмудистам» прием «аналогий и исторических параллелей», «крайне рискованных» и даже «бессмысленных» («Буржуазная революция и революция пролетарская»)[84].
Привычно подражая в определениях «лучшему теоретику», Сталин вполне искренне солидаризуется с его подходом. К мишуре интеллигентских сравнений он относится с открытым презрением, поддержанным сочетанием невежества, патриотизма и здоровой житейской эмпирики: «Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий», — в 1925 году говорит он немецкому коммунисту Герцогу. «Меньшевистскую группу» в марксизме Сталин порицает именно за то, что «указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей», — и за ту же манеру бранит Троцкого (бывшего меньшевика), увлеченного «детской игрой в сравнения».
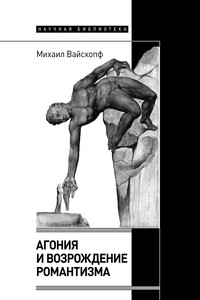
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга известного израильского филолога Михаила Вайскопфа посвящена религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике и трактовке эротических тем. Эта проблематика связывается в исследовании не только с различными западными влияниями, но и с российской духовной традицией, коренящейся в восточном христианстве. Русский романтизм во всем его объеме рассматривается здесь как единый корпус сочинений, связанных единством центрального сюжета. В монографии используется колоссальный материал, большая часть которого в научный обиход введена впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.