Петербургский случай - [10]
– Вам кого угодно? – спрашивал он уже на дворе бравого, седого шеврониста[11], видимо, отыскивавшего чью-то квартиру.
– Господина чиновника Померанцева, – отвечает ундер. – От господина экзекутора[12] из департамента прислан, чтобы, то есть, изволили они явиться на место своей службы. Который уж день ни сами не являются, ни репортички не шлют. Это што же будет такое?
– Да их уж кое место дома нет, – докладывает дворник. – Многие спрашивали – не вы одни. Да ведь где ж их найдешь? Онамедни еще в двух колясках укатили куда-то, надо так полагать, што за город… Барышни, эт-та, при их… товарищи… Што вина с собой понаклали, што всякой всячины, – страсть!..
– Что же это? Значит, тово?.. – осведомляется ундер, знаменательно пощелкивая себя по тугому воротнику. – Бывает сюда-то?
– Быв-ваит? – удивился дворник. – Да кажинный божий день… То есть такие гулянки, хоть бы графу какому!.. То просители, то мало ли кто… Основой снуют… И сколько нам хлопот с этим господином, б-беда! То и дело в фартал из-за нево… Онамедни, этта, двух девиц р-резь по шшокам!.. Блаородных – не каких-нибудь… Так-тось! Бе-ед-довый, умереть на месте!
– Гм! – кашлянул ундер. – Так нет дома?
– Ни б-боже мой…
– А где тут у вас позабористее? Ходишь-ходишь за ними, сбираешь-сбираешь их, совсем с ног собьешься.
– Позабористее? Вот насупротив! Добегем на минутную. Я кстати с вами, господин кавалер, за компанию. У меня, признаться, ноне тоже поясница што-то… Поигрывает быдто… А заведеньице у нас, прямо сказать, хоть бы гыспадам афицерам гулять… Не замараются, – верьте слову…
– Нам все единственно, – сказал ундер, уже на шагу к рекомендованному заведеньицу. – Привыкши ко всяким… В тридцать-то восемь годов… Д-да! Привыкнешь ко всяким, друг!.. Нюхаешь? Сам тер… На березовой золе…
– Больше трубку… А впрочем, потребляем скуки для ради! Ч-чх-хи! О, да какой лютой, волк его зарежь! Так в слезы и вдарил!
– Хе, хе, хе! – засмеялся ундер. – Вдарит как есть! Привычных-то вон какие ежели, так и то… Страсть! Крестются иные… Это, говорят, черт, а не табак! Хе, хе, хе!
Ничего этого не видит и не слышит Иван Николаевич, потому что он снова увидал своего сутулого мальчика, который уже теперь не мальчик, а взрослый юноша, с задумчивым, сосредоточенным взглядом. Как большая часть юношей, он ведет свой дневник – и Иван Николаевич читает этот дневник с самым пожирающим любопытством.
Дневник начинался описанием значительного провинциального города, который своими дивами очень подействовал на впечатлительное воображение ребенка, не видавшего ничего грандиознее двухэтажного дома уездного головы. Тут было и ученье губернского батальона с серьезным, но несколько хриповатым подполковником, то и дело встряхивавшиеся плечи которого так и рассыпали от себя золотые искры. Большая Московская улица занимала в дневнике целые десять страниц: золоченые государственные орлы, распростертые над дверями двух губернских аптек, довели до лиризма младенческий слог сутулого мальчика. Всесветная слава русского орла была воспета едва-едва грамотным поэтом с чувством, делавшим отличную честь его патриотическим стремлениям. Быстро пролетавшие кареты помещиков и разных губернских властей заставляли мальчугана с судорожной поспешностью сдергивать с головы шапчонку и почтительно раскланиваться с восседавшими в них, как говорится в «Приключениях английского милорда Георга»[13], знатными обоего пола персонажами.
«Но барыни, – сказано было в дневнике, – смеялись надо мной и вслух с громким смехом говорили: ах, какой смешной мальчишка! А я перенял это у нашего священника и у тятеньки, и потому мне было очень обидно, что надо мною смеются. Священник и тятенька поклонятся, бывало, всякому тарантасу, какой по селу проедет. Случалось, что тарантас бывал задернут кожей, но они все-таки кланялись. Я однажды сказал тятеньке: „Ведь барин-то спит, зачем же ты кланяешься?“ – „Как зачем? – удивлялся тятенька. – А ежели в случае барин-то проснется да у кучера спросит: што, скажет, кланялись мне в таком-то селе?“»
Глубоко, так сказать, трепетавшими штрихами ребенок описывает тот экзамен, которому подвергли его в губернском городе.
«Мой тятенька, – летописал ребенок, – все время крестился и плакал, стоя у растворенных классных дверей. С ним вместе стояло много священников, дьяконов и дьячков. Все они вытирали заплаканные лица красными ситцевыми платками и тоже, как и отец мой, глубоко вздыхали и крестились. Я писал рассуждение на латинском языке: serva ordinem et ordo servabit te[14] но не мог хорошо писать, потому что от страха мне хотелось спать… Отец в это время потихоньку взглядывал на меня из-за дверной притолоки и грозился пальцем, чтобы, то есть, я старался… Я от этого еще пуще пугался…
Подле меня сидел мальчик с большими синими глазами. Он как будто ничего не боялся, а все засматривал в мою тетрадь и все спрашивал у меня, как будет perfectum[15] такого-то глагола, как supinum[16]. Я ему подсказывал, что знал…
Потом мы с ним разговорились шепотом, не глядя друг на друга, чтобы нас не заметили, и он сказал мне: „Напиши мне рассуждение, amice!
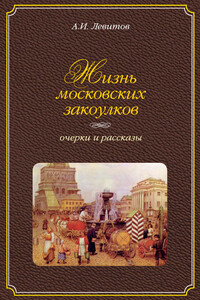
Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России.

«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…».

«Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами… И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что чтo умерло, то не воскреснет…».

«У почтовой конторы в городе Черная Грязь стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин телеги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик…».

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица…».

«Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни…».

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.