Петербургский случай - [9]
И вот видится ему, что стойло, всегда смрадное, возможным образом прибрано: его грязный пол усыпан свежим сеном, промозглые стены выбелены; лохматые ребятишки выстрижены наголо, и прорехи на их рванье кое-как стянуты толстыми, суровыми нитками. В притихшем стойле уныло звучит болезненный голосок сутулого мальчика, не без некоторого самодовольствия рассказывавший, как когда-то какой-то illustrissimus dux[9] наголову расколотил целую тьму каких-то paganissimos[10].
С чувством, с толком, с расстановкой и, кроме того, с любовью к изученному делу мальчуган передает в назидание своих сверстников все те симпатии, которые доблестный дееписатель выражает к illustrissimus'у, и равномерно все глубокое отвращение к этой расколоченной ими в пух и прах сволочи – paganissimus'ам.
– И нас, и нас так же и тому же учили, – восклицает во сне Иван Николаевич, словно бы обрадовавшись тождеству образования в разные времена. – Мальчик! Мальчик! – громко кричит он, как бы окликая кого-то, находящегося от него на большом расстоянии. – Брось эту глупую книжонку, мальчик! Изорви ее. Не слушай их. Не учись восторгаться грабежом и убийством победителей, учись любить и помогать побежденным. Ах, злодеи! Испортят они у меня ребенка. Не слышит меня, бедное дитя…
И в действительности, ребенок не мог услышать звавшего голоса, потому что все его внимание было окончательно задавлено последними наставлениями, имевшими целью еще более усилить его познания в татаромудрии. Это был последний муштр, которым муштровали мальчика в стойле, и когда он окончился, Иван Николаевич видел, как сутулый мальчик из ушата, стоявшего на дворе стойла, умывал лицо, раскровавленное нетерпеливой руководительскою дланию, как он заботливо прятал за пазуху какую-то книжку, как переходил отвратительный мостишко, перекинутый через великолепную реку. Потом мальчик потянул в гору по бесконечно длинной дороге, обсаженной двойным рядом густых ветел и залитой дивным сиянием солнца. Иногда он останавливался, вынимал из-за пазухи книгу и с видимою радостью принимался читать ее заглавный лист, на котором было написано следующее: за благонравие и отличные успехи в науках ученику такого-то стойла… и проч.
Вот уже виднеется один только картузишко ребенка с разорванным пополам козырьком. Ивану Николаевичу кажется, что картузишко этот плавает на поверхности хлебного моря, как на настоящей реке остается и долго плавает шапка человека, который спрятался на тенистом речном дне вместе с своим смертельным горем…
Нет более сутулого ребенка! Всего его схоронила эта пустыня, ласковая и величавая.
– Это он домой пошел на вакацию! – шепчет Иван Николаевич. – Ах! Как там хорошо теперь!..
IV
А между тем к двери, обитой черной клеенкой, нет-нет да и толкнется какое-нибудь лицо. Приходила вечно сердитая прачка с тяжелой корзиной на голове и с длинной рыжеватой эспаньолкой, властительно рассевшейся на левой щеке. Позвонивши несколько раз нетерпеливой рукой мастерового человека, дорожащего временем, она находчиво посмотрела в замочную скважину и, когда увидала, что в ней нет ключа, тотчас же принялась спускаться с лестницы, пыхтя под тяжестью своей ноши и бормоча себе под нос, что «ишь-де, с коих пор шуты со двора уносят! Придется ужо из девушек кого-нибудь спосылать к нему. К этому не опасно, – не дозволит заболтаться, медведем лесным глядит…»
Приходил почтальон в разбитых сапогах и в отрепанном сюртучишке, весь пропитанный первейшим полугарным запахом. Он очень долго звонил с такою энергией, с какою звонят у своих собственных квартир только самые нетерпеливые хозяева. Ни до чего не дозвонившись, он стремительно сбежал под ворота и спросил у рыжеватого дворника, мирно созерцавшего, под влиянием только что огорошенной на даровщину косушки, бурное течение петербургской жизни:
– Што у вас нумер тридцать седьмой поколел, што ли?
– А што?
– Звонил, звонил…
Дворник отвернулся от почтальона, не удостоив его ни малейшим ответом.
– Што же ты, леший, ничего не говоришь? Дома нет, што ли?
– Мы об эфтим неизвестны. Мало ль у нас всякого народу живет? Углядишь за ними – как же!
– Так вот возьми письмо.
– Ну, это дело не наше – за всякого по три копейки платить.
«Мы тебя пропекем, пымаранец, – думает дворник после ухода почтальона, по-мышачьи проворно юркнувшего вместе с письмами в ближайший погребок. – Мы тебе дадим письма!»
– Эй, друг! Послушай-ка! – спрашивает дворника какой-то господин, не сходя с извозчичьих дрожек. – Что, Иван Николаевич Померанцев дома?
– Толички сичас вышедчи, ваше высокоблагородие! – отвечал дворник, держа на отлете снятую шапку. – Вот толички что перед вашим приездом взяли извозчика и в эфту-то вот самую сторону и натрафили.
– Мы тебе удружим! – повторял дворник тихомолком, самолично взбираясь к Ивану Николаевичу с огромной вязанкой дров. – Мы тебе покажем коку с соком.
И на его звонки не отперлась неприветливая дверь, ревниво охранявшая своего хозяина с его думами и видениями.
– И когда его черти унесли только? – недоумевал дворник, сбрасывая дрова у дверей. – Кажись, все время у ворот сидел, а не видел. Ну да ничего! Подбирай покамест дрова-то, пымаранец! Паг-гади! Мы тебе удружим…
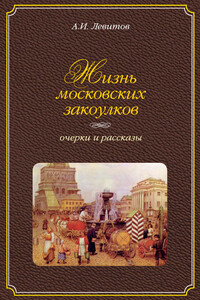
Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России.

«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…».

«Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами… И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что чтo умерло, то не воскреснет…».

«У почтовой конторы в городе Черная Грязь стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин телеги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик…».

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица…».

«Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.