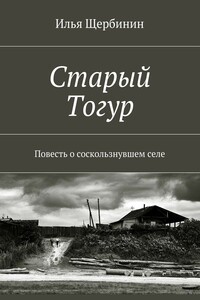Когда он отыскал отточенную под копье веточку и вернулся к станку, на парапете рядом с Сидором сидел татарин Ибрагим - домоуправский мусорщик и "старье-берем" по совместительству. Ибрагим был очень богатый, и тетя Глаша, считая на кухне его заработки, никак не могла досчитать до конца. Лицо у Ибрагима было печальное и оплывшее, как от зубной боли. Он был в латаном ватнике, который носил зимой и летом, и в мягких, тоже латаных сапогах. В плечах он был узок, бесформенно растекался к бедрам и казался вдвое ниже костистого Сидора в выцветшем френче.
- Ножи кухонные, столовые, фруктовые! Ножницы раскройные, маникюрные! Сохраняют форму, приобретают остроту, - нараспев объявил Сидор и в заключение щегольски протянул кухонное лезвие по кожаному ремню.
- Как это твоя без глаз точит? - спросил Ибрагим.
Сидор частыми движениями большого пальца пробежал лезвие и ответил поучительно:
- Лезвие, Ибрагим, руки чуют. Ему глаза без надобности.
Он оставил нож на расстеленной по парапету промасленной тряпочке и стал сворачивать цигарку.
- Кури, - сказал он, неловко ткнув кисет Ибрагиму.
- Моя не курит.
- Как поживаешь, Ибрагим? - спросил Сидор, засмоляя цигарку.
Ибрагим поцокал языком и ответил:
- Плохо. Плохой война - плохой и жизнь. Тряпок нету, отхода нету. К свалкам дорога травкой поросла.
- Откуда отходы, Ибрагим, когда сама жизнь отходами держится? - спросил Сидор, и на его тощей шее обозначились продольные складки темной кожи.
Ибрагим надолго зацокал.
- Но ведь живы. Я для того и точить выхожу - дескать, не задавил нас фашист, живем помаленьку. - Сидор прислушался и кивнул на распахнутое окно третьего этажа, из которого доносились приглушенные портьерой звуки фортепиано. - Может, и там человек для того старается. А по делу - так что точить ножи, коли их тупить нечем? Да что наши беды! Наши беды с детьми бедуют. Давно писем от сынов нету. А то часто писали.
Ибрагим поцокал и решительно поднялся.
- Пойду начальнику Пиводелову жаловаться.
- Это шкурнику, что ли?
- Не моя выбирала.
- На что жаловаться, Ибрагим, на войну?
- Моя не знает. Начальник знает. Нет работы - надо жаловаться.
Ибрагим ушел, а Сидор в лад мыслям неторопливо вращал круг, уже сточивший Авдейкину веточку в кинжал, и прислушивался к мелодии, поднимавшейся частыми ударами к очеркнутому душой пределу и внезапно, беспорядочно срывавшейся со своего пути.
Когда от веточки ничего не осталось, Авдейка взобрался на насыпь, взглянул на большую лопату, которой орудовала Глаша, вскапывающая грядку под картошку, и вздохнул. Потом взял свою - детскую с красным черенком, - навалился на нее всем телом, чтобы копнуть глубже, и упал. Болонка, оказавшийся рядом, скромно хохотнул. Авдейка сделал вид, что не заметил, и продолжал копать. На соседней делянке неторопливо ворочала взрослой лопатой Иришка. Неожиданно прибежала ее мать, выхватила лопату, закричала, что надо копать глубже, и стала вонзать лезвие в красноватую землю, а потом закашлялась до пятен и убежала на завод. Иришка подняла лопату и продолжала копать с прежней неторопливостью. Иришка все делала по дому и училась хорошо, но что-то случившееся с ней после смерти отца с яблочным лицом было так нестерпимо ее матери, что она без повода ругала ее, била и плакала. И все, что днем вскапывала Иришка, по вечерам перекапывала ее мать.
Авдейкина лопатка понемногу освоилась, все легче .проникала в верхний слой, вонзалась тверже, ухватистей, оставляла чистый красноватый срез. В штык детской лопатки открывалась под мусором городской жизни плодоносная суть земли - приобщением к тайне, о которой Авдейка не знал как сказать. Счастливыми глазами посматривал он на тетю Глашу и угадывал это знание в сноровистых движениях ее рук, сладко вонзавших лопату, в ритмичном волнении ее тела, необъяснимо родственного податливой земле. Мир был полон тайн, они возникали из ничего, как белые пузыри на ладонях. Первым их заметил Болонка. Он с восхищением ухватил Авдейку за руку и объяснил, что это волдыри и если их проколоть, то польется вода, а если не трогать, то получатся мозоли. Для пробы один волдырь прокололи, а из других Авдейка решил выращивать мозоли.
Самому Болонке не полагалось ни грядки, ни лопаты, ни волдырей, потому что, когда делили землю двора, он бегал от немцев. Болонка бегал в Сибирь, откуда вернулся в товарном вагоне с оборудованием. Еще у него был тиф, он часто бывает, когда ездят в товарных вагонах. Болонкой его прозвал кто-то из больших ребят, видевших такую лохматую собачку - до войны, пока их не съели. Прозвали его так в насмешку, когда он был острижен наголо и напоминал скорее наперсток, но к весне он оброс и вправду оказался похожим на лохматую, голодную и беспредметно озабоченную собачонку. Теперь Болонка любил показывать нос новым стриженым эвакуашкам. Поплевав для вида на ладонь, он тер голову и ужасно при этом смеялся. Но эвакуашки, настороженно бродившие вокруг насыпи, не отвечали. Держались они замкнуто, в повадках их сквозила мрачная подозрительность кочевья.
Авдейка радовался волдырям, тому, что родился здесь и не был в эвакуации и что папа его погиб на фронте. Большие ребята издали кивали ему, и сам Кашей, проходя мимо с лопатой под мышкой, потрепал по плечу и подмигнул оторопевшей Глаше. Когда он отошел, Глаша принялась стращать: