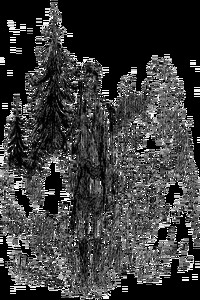Перо жар-птицы - [13]
Цветение начинается в апреле. За бело-розовой завесой из яблонь и вишен не видны стены домов с их заплатами и отбитыми углами. Потом наступает очередь черемухе, а дальше — каштанам. Они у нас как на бульваре, в центре, только погуще и развесистей. Сейчас все в липовом цвету. Там, внизу, квартал с небольшим, грохоча и сигналя, несутся машины, задыхаются в бензинном чаду пешеходы, а здесь — тишь, разве что петух прокричит. Улицу насквозь заполнили налившиеся соком липы.
Я гляжу на поспевающую антоновку и вспоминаю домовладельца Хоменко. Мы воровали у него яблоки и сливы. Пока я, самый меньший, стоял в дозоре, Славка и наш друг Жора Воробьев влазили на деревья и набивали пазухи спелыми антоновками и венгерками. Нагруженные таким манером, они напоминали буржуев с плаката. Один экс чуть не кончился плачевно. Наверное, я о чем-то размечтался, потому что Хоменко вырос незамеченный. Мы только ахнули. Славка и Жора мигом спрыгнули на землю и все трое метнулись наутек, да так, что пятки засверкали. Вдогонку нам гремели проклятья, летели камни. К счастью, они никого не задели. Не помню, как мы очутились на улице. Трофеи вывалились из-под маек и катились в стороны. По пути Жора нырнул к себе в калитку, а мы, не переводя дыхания, мчались дальше. Хоменко постепенно отставал, подводила отдышка. Он ворвался через несколько минут после того, как мы завершили свой кросс, запыхавшиеся, онемевшие от страха.
Протест был заявлен в самых энергичных выражениях и с педагогическим оттенком. Речь шла о честности с малолетства, о том, что дурные наклонности нужно пресекать в зародыше, — начинается с яблок в чужом саду, а кончается кражей со взломом, если не хуже.
Мы стояли, потупив взоры. Мама залилась краской, просила извинения. Отец торопился на педсовет, но дал слово, что по возвращении непременно спустит обоим штаны и выпорет. К вечеру отец забыл о данном слове или сделал вид, что забыл. Скорее всего — сделал вид.
Зимой тоже хорошо. Снег лежит чистым, глубоким покровом и держится долго, до самой весны. В сумерки, когда зажигались фонари, папа катал нас на санках. Славка усаживался сзади, я — первым, опираясь на него как на стену, а папа бежал рысью, маневрируя между сугробами, взбираясь на пригорки.
Позже мы катались сами. Карабкались по крутой, уходящей к самому госпиталю Лабораторной и с горы стремглав неслись вниз. Нам строго-настрого запрещалось кататься на Лабораторной. С разгона там можно было угодить под трамвай (тогда еще внизу ходили трамваи), но мы хотели, как другие, и все кончалось благополучно. Озябшие и раскрасневшиеся, мы возвращались домой, дули на сведенные морозом пальцы и прижимались к пышущей жаром голландке.
Тем временем мама накрывала на стол. Появлялся неизвестно когда успевший закипеть самовар, и все усаживались на свои места.
Перед сном мы всегда читали. Догорал огонь в печи, чуть слышно цокал будильник, а за окном черт прятал месяц, и казак Чуб брел с кумом темной, непроглядной ночью — хоть глаз выколи, Атос поджидал д’Артаньяна у монастыря Босоногих Кармелитов. Лопался по швам заячий тулуп, подаренный Гриневым вожатому в Оренбургской степи. Читали вслух, по очереди — сначала я (слог — к слогу, слово — к слову), Славка (побойче), завершали чтение мама или папа. Потом ложились спать. Я спал со Славкой на этой же койке. Мама выключала свет, поправляла нам одеяло, целовала каждого в лоб и незаметно крестила одного и другого.
Я часто думаю о том, что рано или поздно (придет же черед!) сюда наедут бульдозеры, набросятся на это жилье, обломают деревья, вывернут с корнем кусты, разгонят птиц. И прощай, милая, провинциальная тишина! Взамен вымахаются семиэтажные спичечные коробки, поставленные ребром. Заколесят туда-сюда машины… Эта мысль нагоняет тоску. Право же, они еще не так плохи, эти хатенки, и могли бы послужить людям.
Размышления прерывает Мотя. Она появляется в окне, скептически окидывает мою берлогу и замечает:
— Вылеживаешься…
Я испытываю глупейшее чувство неловкости, будто совершил непростительный грех.
Мотя ставит на подоконник две бутылки молока, полбуханки хлеба, затем выкладывает сдачу.
Пора вставать, уже время. Я слажу с койки, подтягиваю трусы и беру бутылки. За неимением холодильника погружаю их в стоящее у двери ведро с водой.
— Дай, принесу свежей, — говорит Мотя.
Я передаю ей ведро и одеваюсь. Она выплескивает воду на соседний куст, отчего шарахаются в стороны перепуганные куры, и через минуту возвращается с полным.
— Вечером приберу, — кивает она на окружающий меня бедлам.
Как всегда, в эту пору здесь не протолкнешься. У прилавка, где продается печенка, галдят тетки, постарше и помоложе. От них не отстает рассеявшаяся вперемешку мужская особь.
— Шурочка, не отпускай без очереди!
— Мужчина, вы же не стояли!
Мужчина что-то мямлит, в связи с этим начинается обмен мнениями.
Рядом в ы б р о ш е н ы издыхающие лещи. Тут тоже толчея. К сведению уважаемой публики висит объявление:
«Уснувшую при реализации» — понимай: загнувшуюся при продаже.
Я переминаюсь с ноги на ногу. Лезть без очереди совестно, становиться в хвост некогда — уже без десяти девять, в конторе нужно быть в срок. Не дай бог опоздать, Сокирко съест живьем. Случайно, я встречаюсь глазами с Шурочкой, совсем юным созданием, только-только вылупившимся из торгового техникума и пока еще поминутно краснеющим и смущающимся. Шурочка делает непроизвольное движение в мою сторону, инстинктивно я устремляюсь к ней. И тут происходит чудо — тетки, готовые отвинтить друг другу головы, если что не так, предупредительно расступаются и пропускают меня в самую гущу. Недовольно косится лишь сильный пол. Кланяясь и улыбаясь влево и вправо, я пробиваюсь к прилавку.
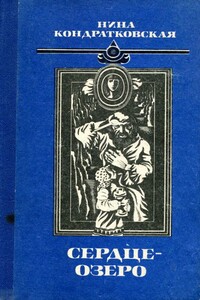
В основу произведений (сказы, легенды, поэмы, сказки) легли поэтические предания, бытующие на Южном Урале. Интерес поэтессы к фольклору вызван горячей, патриотической любовью к родному уральскому краю, его истории, природе. «Партизанская быль», «Сказание о незакатной заре», поэма «Трубач с Магнит-горы» и цикл стихов, основанные на современном материале, показывают преемственность героев легендарного прошлого и поколений людей, строящих социалистическое общество. Сборник адресован юношеству.

«Голодная степь» — роман о рабочем классе, о дружбе людей разных национальностей. Время действия романа — начало пятидесятых годов, место действия — Ленинград и Голодная степь в Узбекистане. Туда, на строящийся хлопкозавод, приезжают ленинградские рабочие-монтажники, чтобы собрать дизели и генераторы, пустить дизель-электрическую станцию. Большое место в романе занимают нравственные проблемы. Герои молоды, они любят, ревнуют, размышляют о жизни, о своем месте в ней.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.
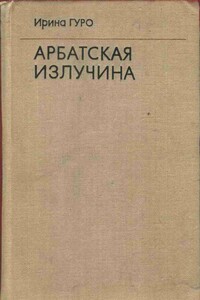
Книга Ирины Гуро посвящена Москве и москвичам. В центре романа — судьба кадрового военного Дробитько, который по болезни вынужден оставить армию, но вновь находит себя в непривычной гражданской жизни, работая в коллективе людей, создающих красоту родного города, украшая его садами и парками. Случай сталкивает Дробитько с Лавровским, человеком, прошедшим сложный жизненный путь. Долгие годы провел он в эмиграции, но под конец жизни обрел родину. Писательница рассказывает о тех непростых обстоятельствах, в которых сложились характеры ее героев.

Повести, вошедшие в новую книгу писателя, посвящены нашей современности. Одна из них остро рассматривает проблемы семьи. Другая рассказывает о профессиональной нечистоплотности врача, терпящего по этой причине нравственный крах. Повесть «Воин» — о том, как нелегко приходится человеку, которому до всего есть дело. Повесть «Порог» — о мужественном уходе из жизни человека, достойно ее прожившего.