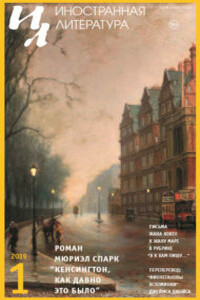Периферия, или Провинциальный русско-калмыцкий роман - [5]
— Погоди, дорогая! Вначале я искренне огорчился, ну и «пошла писать губерния». А дня через три мне вдруг вспомнился эпизод из «Мастера и Маргариты», ну, тот, где Коровьев и Бегемот пытаются попасть в ресторан писательского дома, а их туда не пускают из-за отсутствия удостоверений. Раз нет удостоверения, значит — не писатель! И тогда ехидный Коровьев нагло заявляет, что в таком случае и Федор Михайлович Достоевский тоже никакой не писатель. «Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было!» — глумливо резюмировал Коровьев.
Это меня совершенно успокоило, но запой уже развивался по своим алкогольным законам. Меня утешало, что я умудрился не оказаться в неприличном обществе. Понимаешь, каждый отдельный член секретариата может быть в жизни милейшим человеком, но в целом они — Функция, а она, Функция, выполняет то, что предписано сверху. Спасибо, хоть Антон Санджиевич печатает меня здесь практически без купюр в своем журнале! А журнал этот — последний островок культурной художественной жизни Калмыкии. Раньше он выходил пятью с половиной тысячами экземпляров и имел формат А4, а не размеры школьной тетрадки. Его выписывали даже за пределами республики, и выходил он ежемесячно, а не в количестве 8 номеров в год, как сейчас. За честь считалось напечататься в нем. Да и имена были достойные. Умрут последние могикане, и ман…ец калмыцкой литературе! Казалось бы, в планетарном масштабе сущий пустяк, не достойный особого сожаления. Но на земле окажется еще один народ без своей письменной культуры, что очень на руку нашим друзьям-глобалистам.
Говорят, что покойный первый секретарь калмыцкого обкома, заботливый усатый «хозяин» республики, после выпуска в свет очередного журнала, мог неожиданно спросить любого на рабочем совещании: «А, что, лично Вам, понравилось в последнем номере?».
И выписывали, и читали, как в обкоме, так и в горкоме и горисполкоме. Подозреваю, что нынче некоторые из Белого дома и мэрии даже не догадываются о существовании этого журнала. Вот что значит ненавязчивая опека первого лица республики!
На охмелевшего Олега нашло то, что в медицине называют логореей, то есть, словоблудием, а если грубее — словесным поносом. Несмотря на заметную смазанность речи, что объяснялось воздействием спиртного, фразы он строил четко, так, как будто выступал перед аудиторией, а не беседовал с глазу на глаз с ближайшей подругой. Сказывалась многолетняя привычка к публичным выступлениям, и эта профессиональная журналистская привычка молотить языком усиливалась и подогревалась алкоголем, да и прибавляла словам некоторую выспренность, хотя Олегу был ближе сарказм. Герля внимательно, но не без иронии, слушала своего нетрезвого друга, подперев кулачком очаровательную мордашку. Она позволила себе лишь одну едкую ремарку:
— Хочешь, я дам тебе совет, как стать самым печатаемым автором в России. В своем новом «историческом» романе ты «научно» докажи, что первый русский князь был по национальности евреем. Правда, я не уверена, что люди будут ломиться в очередях, чтобы эту книгу приобрести, а, тем более, прочитать.
Олег, не обращая внимания на ее ценное предложение, описывая вилкой кривые эллипсы, продолжал:
— Мы не заметили, как постепенно в нашу литературную жизнь вползла серая крыса-цензура. Причем, цензура куда более иезуитская, чем советская. Та прямо говорила, что у вас или нет таланта, или вы политически не созрели для идеологии и пропаганды. Новая цензура лицемерно ссылается на законы рыночной экономики. Ну, что мы можем поделать, если не покупают ваши книги! Нет спроса на ваши произведения! Вы, что, забыли, что у нас на дворе рынок? Или другая причина отказа в публикации: «Ваша вещь, безусловно, очень талантливая, превосходная, но наше издательство, к сожалению, специализируется на другой тематике».
Долго сидевшие без работы люди из крысиного центра, почувствовав востребованность, засучили рукава и неторопливо, со знанием своего дела, с душой, приступили к еще не забытому, невидимому невооруженным глазом труду. И писатели сразу ощутили этот холод бездушной машины, стали инстинктивно себя «стреноживать».
Ты обратила внимание, Герлюша, на то, что в современной калмыцкой литературе, на родном ли языке или на русском, резко сузился круг тем. Лирическая поэзия, темы войны и репрессий, исторические и литературные обзоры, воспоминания, религиозный ренессанс. И ни слова о современной, сегодняшней жизни. А это ненормально для полноценного литературного процесса.
Вот и появляются пасторальные рассказы, где в воздусях чирикают птички-жаворонки, и сквозь пелену облаков прорывается луч света. А промеж тяжелых, пушистых колосьев, тяжело склонившихся к земле, уверенной, твердой поступью шагает свободный фермер в кроссовках «Адидас» и удовлетворенно размышляет: «На славу удались хлеба, значит, богаты будем!». Хотя в жизни урожай — дерьмовый, не хватит заплатить проценты по кредиту банку, а сам фермер в путах кредитов, долгов и залогов. Ну, а птички, они при любом режиме не помешают.
А недавно один старый писатель-фронтовик с горечью говорил мне о «воспоминаниях» очередного «участника войны», где тот описывает, как в воздухе немецкие «Юнкерсы» гонялись за нашими истребителями. Представляешь, Герля, тяжелые, маломаневренные бомбардировщики «Юнкерсы» гоняются за юркими «ястребками», которые как раз и предназначены для уничтожения бомбардировщиков. Этот хренов «очевидец» и к обозу, видно, не приближался. Вот тебе и вся, правда, о войне!

Подборка этих коротких рассказов публиковалась в различных вариантах в литературно-художественном журнале «Теегин герл» — «Свет в степи» (Элиста), в «Медицинской газете» (Москва) и в книге «Периферия, или провинциальный русско-калмыцкий роман».
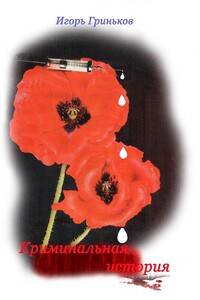
"Нетрадиционный" детектив, в котором все, как в жизни. Рассказы в спектре от драматических до стеба "пpo нашу жизнь убогую".
![Откровения судебного медика [сборник]](/storage/book-covers/66/668e30a025c51d52e9d6df45bb238c3c22c3e582.jpg)
Невыдуманные истории из практики судебно-медицинского эксперта. О том, как раскрывают «глухие» преступления, находят исчезнувших граждан, скрывают и обнаруживают улики. Шокирующая исповедь человека, чья профессия подразумевает ежедневную встречу со смертью.
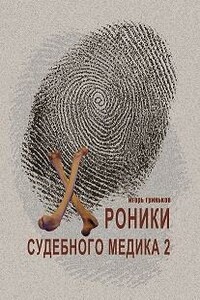
Документальные очерки о работе судебно-следственных органов и судебно-медицинских экспертов Калмыкии в раскрытии тяжких преступлений против жизни человека, основанная на личном опыте автора и реальных событиях.
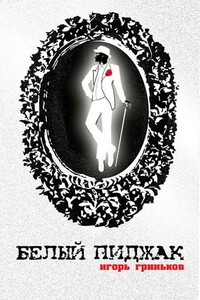
В сборнике опубликованы два произведения Игоря Гринькова — повесть «Белый пиджак» и рассказ «Люди из тени», объединенные одной злободневной темой, посвященной проблеме самого распространенного социального зла — алкоголизма и наркомании.
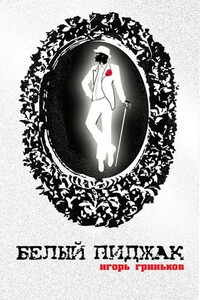
Герой повести, молодой студент-медик, попадает сначала под дурное влияние старшекурсников, а затем и закадычных друзей, в обществе которых постепенно отходит от своего основного занятия — учебы в институте, погружаясь шаг за шагом в алкогольный омут.В повести подробно рассказывается, как за дружескими попойками и пирушками, за тягой к праздности герой постепенно теряет интерес к жизни, попадает в различные трагикомические ситуации, морально деградирует и, в конце концов, к нему приходит неминуемая расплата: хроническая болезнь, страдание родных и близких, распад семьи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/be/be2723eec8d85dc3b97a39d8364c2aa9175ec9cf.jpg)
Сборник знакомит читателя с творчеством одного из своеобразных и значительных английских новеллистов XX века Альфредом Коппардом. Лаконично и сдержанно автор рассказывает о больших человеческих чувствах, с тонкой иронической улыбкой повествует о слабостях своих героев. Тональность рассказов богата и многообразна — от проникновенного лиризма до сильного сатирического накала.

Мудрые афоризмы (или микро-рассказы с сюжетом и философской подоплекой). :) Авторство мое и отчасти народное (ссылки на источники дать не смог из-за ограничений сайта самиздата :-(). Выпуски обновляются нерегулярно. Желающих читать самые свежие "глупости" приглашаю в мой блог в ЖЖ (rabinovin).
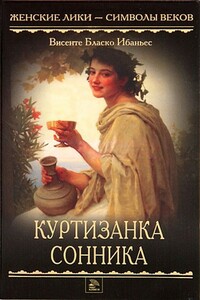
Висенте Бласко Ибаньес (1864–1928) — один из крупнейших испанских прозаиков конца XIX — начала XX в. В мастерски написанных произведениях писатель воссоздал картины, дающие представление о противоречиях жизни Испании того времени. В данном томе публикуется его знаменитый роман «Куртизанка Сонника», рассказывающий об осаде в 219 г. до н. э. карфагенским полководцем Ганнибалом иберийского города Сагунта, ставшего римской колонией. Ганнибал решает любой ценой вернуть Сагунт под власть Карфагена, даже если придется разрушить город.
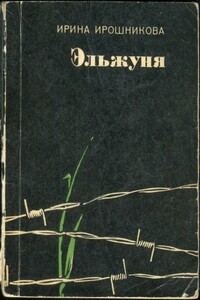
Новая книга И. Ирошниковой «Эльжуня» — о детях, оказавшихся в невероятных, трудно постижимых человеческим сознанием условиях, о трагической незащищенности их перед лицом войны. Она повествует также о мужчинах и женщинах разных национальностей, оказавшихся в гитлеровских лагерях смерти, рядом с детьми и ежеминутно рисковавших собственной жизнью ради их спасения. Это советские русские женщины Нина Гусева и Ольга Клименко, польская коммунистка Алина Тетмайер, югославка Юличка, чешка Манци, немецкая коммунистка Герда и многие другие. Эта книга обвиняет фашизм и призывает к борьбе за мир.