Перевернутая страница не означает поражения - [2]
Пинтору посвящены два параграфа «Мидолло». Это поколение имело свой кодекс чести, свои нравственные нормативы и свои твердые суждения о стиле. Понятие стиля относилось не только к литературе. Для этого поколения имела большое значение фраза, которую часто повторял Грамши: «Пессимизм разума, оптимизм воли». Многие, и Кальвино тоже, думали, что это цитата из Р. Роллана. На самом деле фраза принадлежит бывшему участнику Парижской коммуны Бенуа Малону. Важно, однако, не авторство, а сама мысль и значение, которое ей придавали Грамши и поколение Кальвино. Совершенно понятно, почему этому поколению так импонировал Пинтор. Дело не только в том, что он героически погиб в Сопротивлении, — героев было много. Дело в том, что это был человек, воспитанный на самой рафинированной европейской литературе рубежа веков, знавший, что такое скепсис, сомнения, ирония. К активному антифашизму Пинтор пришел позднее, чем многие его товарищи, — в результате полного неприятия войны Италии на стороне нацистской Германии. Уходя в партизанский отряд, он 28 ноября 1943 года оставил младшему брату Луиджи длинное философское письмо с размышлениями об итальянской истории и национальном характере итальянцев, о долге интеллектуалов:
«Мы, музыканты и поэты, должны отказаться от наших привилегий, чтобы принять участие во всеобщем освобождении. Вопреки тому, что гласит одна знаменитая фраза, революции удаются тогда, когда их подготавливают поэты и художники, лишь бы поэты и художники знали, что им надлежит делать». Это письмо не просто знаменито, оно хрестоматийно, это формула impegno[3], данная человеком, который социально и интеллектуально как будто не был подготовлен к такому выбору и все же сделал его. Дальше, с нарочитой небрежностью, Пинтор продолжает: «Что до меня, можешь поверить, что идея сделаться партизаном в такую погоду совсем не развлекает меня. Никогда я не ценил так, как ценю сейчас, удобства цивилизованной жизни. К тому же я отличный переводчик и хороший дипломат, но, по всей видимости, буду посредственным партизаном. Однако это единственная имеющаяся возможность, и я ее принимаю». В «Мидолло» Кальвино заявляет, что он и его товарищи целиком разделяют анализ и Программу Джаиме Пинтора. Все в этом человеке им импонировало: холодная логика, отвращение к риторике, чувство историзма, ирония, бесстрашие, этическая позиция, не допускающая ничего двусмысленного. И то, что он, уходя в партизанский отряд, сохранял и защищал свой статус интеллектуала. В «Мидолло» точно оказано, чего хотят и от чего отказываются молодые люди, намеревавшиеся создать в Италии новую демократическую культуру.
В сборник включена лекция «Природа и история романа», которую в 1958 году Кальвино читал во многих итальянских городах, сопровождая иллюстрациями. Лекция начинается цитатой, и Кальвино говорит: «Я читаю вам страницу из «Войны и мира» Толстого. Князь Андрей накануне Бородинского сражения». И еще цитаты, цитаты, и последняя, когда раненый князь Андрей лежит в роще: «Но разве не все равно теперь, — подумал он. — А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю». И тут Кальвино начинает собственно лекцию: «Что в этих страницах Толстого так чарует нас?» И четкий анализ: человек, природа, история. «В соотношении этих трех элементов заключается то, что мы можем назвать современным эпосом. Великий роман Отточенто начал этот разговор, и проза Новеченто, нервная, угловато-прерывистая, продолжает его. Изменяется подход к индивидуальному самосознанию, к природе, к истории, варьируется соотношение между тремя гранями. Но при всех различиях литература двух последних столетий показывает нам совершенную преемственность разговора».
Эта лекция — панорама мировой литературы; человек, природа и история остаются константами, соотношение которых изменяется во времени, а главным ориентиром для итальянского писателя неизменно является русская классика от Пушкина до Чехова. Мысль о «пессимизме разума, оптимизме воли», текстуально не повторяясь, присутствует неизменно. Ни Пушкина, ни Стендаля лектор не считает «оптимистами», но с восхищением говорит об энергии мироощущения и языка, об уроке твердости и мужества, который они оставили потомкам. Но мир разнообразен и огромен, в каждом великом романе переплетаются личное и общественное, мы видим это и в «Воспитании чувств», и в «Бойне и мире», этом «самом реалистическом романе, какой когда-либо был написан», романе «самого великого реалиста — Толстого». Русские классики научили мир также понятию «другой», и этот другой — «наш ближний» («Смерть Ивана Ильича»).
Лекция Кальвино плотная, напряженная, без пустот, и последний абзац предвосхищает одну из нашумевших статей Кальвино «Море объективного», опубликованную в 1960 году в журнале Элио Витторини и Кальвино — «Менабо литературы»[4]. Анализируя французскую ecole du regard и привлекая также итальянские материалы, Кальвино писал, что он («мы») не предвидел и не желал такого развития литературы, когда индивидуальная воля и суждение «тонут в море объективного». Однако это совершившийся факт, и Кальвино с горечью пишет о том, какой разрыв во времени существует между познанием мира и его изменением. И все-таки (в самом конце статьи возникает слово «лабиринт»), ничего не упрощая и фиксируя перемены в развитии литературного процесса, Кальвино подтверждает свою верность старому паролю: сохранять активную позицию, волю к противопоставлению своих ценностей тем ценностям, которые как будто взяли верх, «упорство без иллюзий».
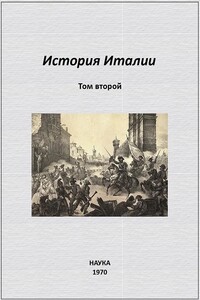
Второй том «Истории Италии» охватывает период с конца XVIII в. до окончания первой мировой войны. В нем освещаются важнейшие проблемы этого периода: буржуазная революция, борьба за образование единого государства, утверждение капиталистических отношений, переход к империализму. Большое внимание уделено развитию рабочего движения, деятельности социалистической партии. Читатель получит представление и об основных сторонах духовной жизни страны в эпоху Рисорджименто и после объединения Италии.
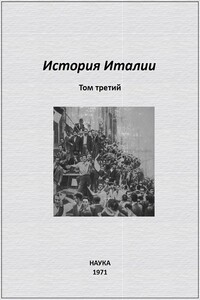
Третий том «Истории Италии» доводит события итальянской жизни до наших дней. В томе рассказывается об основных этапах и проблемах борьбы итальянского народа против фашизма. Значительное место уделяется истории Италии после второй мировой войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
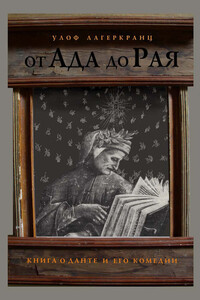
Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).