Переговоры - [58]
Я мыслю философию как логику множеств (я чувствую себя близким к Мишелю Серра в этом отношении). Создавать концепты — значит конструировать какую-то часть плана, добавлять одну часть к предыдущим, заполнять отсутствие. Концепт является соединением, укреплением линий, кривых. Если концепты должны постоянно обновляться, то это как раз потому что план имманенции возводится по частям, он является результатом локального конструирования, осуществляемого постепенно. Поэтому они действуют через прорывы: в «Тысяче плато» каждое плато должно было быть таким прорывом. Но это не значит, что они не были предметом переоценки и систематизации. Наоборот, есть некое повторение как мощь концепта: это присоединение одной части к другой. И это присоединение является операцией необходимой, постоянно совершаемой: мир как пэчворк. Ваше двойственное впечатление о едином плане имманенции и в то же время всегда локальных концептах является очень точным.
То, что заменяет для меня рефлексию, — это конструирование. А то, что заменяет общение, является чем-то вроде экспрессионизма. Экспрессионизм в философии достигает самой высокой точки у Спинозы и у Лейбница. Концепт Другого я нахожу определенным ни в качестве объекта или субъекта (другого субъекта), но как выражение возможного мира. Некто, страдающий от зубной боли, а также японец, выходящий на улицу, выражают возможные миры. И вот они говорят: со мной бьются об заклад из Японии, и даже есть японец, который заключает со мной пари, находясь в Японии, и еще он говорит на японском: язык в этом смысле сообщает реальность возможному миру как таковому, это реальность возможного в качестве возможного (если я еду в Японию, то, напротив, это уже не является возможным). Даже такой столь короткий перечень, включение возможных миров в план имманенции делает из экспрессионизма дополнение к конструированию.
— Но откуда идет эта необходимость творить новые концепты? Существует ли «прогресс» в философии? Как бы вы определили ее задачи, ее необходимость и даже ее «программу»?
— Я полагаю, что есть какой-то образ мысли, который часто меняется, который много раз менялся в истории. Под образом мысли я не имею в виду метод, но нечто более глубокое, всегда предполагающееся, систему координат, движущих сил, ориентации: то, Что значит мыслить и «ориентироваться в мышлении». Во всяком случае, если есть план имманенции, то, чтобы построить его вертикали, следует ли восстановить его в целом или же, наоборот, расширить его, бежать вдоль линии горизонта, продвигать этот план всегда еще дальше? И какова та вертикаль, которая дает нам какую-либо вещь в созерцании или вынуждает нас мыслить или вступать в коммуникации? Разве не требуется от нас отказаться от всякой вертикали как трансценденции, лечь на землю, прижаться к ней, ни к чему не прикасаясь, без размышлений, без права на общение? И еще, есть ли у нас друг, или мы всегда одиноки, Я=Я, или мы любим друг друга, или что-то еще, и какова опасность изменить самому себе, быть преданным и предать? Нет ли такой минуты, когда нужно сомневаться даже в друге? Какой смысл имеет «фило» в философии? Один и тот же смысл имеет это слово у Платона и в книге Бланшо «Дружба», хотя речь идет и там и там о мышлении? Начиная с Эмпедокла разворачивается целая драматургия мышления.
Образ мысли как предпосылка философии, он ей предшествует, на этот раз это не не-философское познание, а пред-философское, есть много людей, для которых мыслить — значит немного дискутировать. Разумеется, есть образ глупца, но даже глупцы становятся образом мысли, и только производя на свет такие образы, можно определить предпосылки философии. Итак, создаем ли мы тот же самый образ мысли, что и Платон, или даже Декарт, или Кант? Не изменяется ли этот образ, следуя настойчивому принуждению, которое, несомненно, выражает собой внешний детерминизм, но еще также и становление самой мысли? Можем ли мы еще утверждать, что ищем истину, мы, спорящие о бессмыслице?
Именно образ мысли руководит созданием концептов. Он подобен крику, тогда как концепт — пению. На вопрос «есть ли прогресс в философии?» следует ответить так же, как ответил Роб-Грийе в отношении романа: нет никакого основания делать в философии то же самое, что делал Платон, не потому, что мы превосходим Платона, но, наоборот, потому, что Платон непревзойден и потому, что совершенно неинтересно повторять то, что сделал Платон раз и навсегда. У нас одна альтернатива: либо история философии, либо прививка Платона к проблемам, которые уже не являются платоническими.
Это исследование образов мышления, называемое ноологией, могло бы быть пролегоменами к философии. Это и есть истинный предмет «Различия и повторения» — природа постулатов в образе мышления. И этот вопрос преследовал меня и в «Логике смысла», где высота, глубина и поверхность являются координатами мышления, я вновь обращаюсь к нему в книге «Пруст и знаки», так как Пруст противопоставляет всю мощь знаков греческому образу, а затем мы с Феликсом возвращаемся к этому вопросу в «Тысяче плато», потому что ризома — это образ мышления, которое простирается под образом деревьев. В этом вопросе у нас был не то чтобы образец, и даже не руководитель, а советчик, с которым мы постоянно встречались: это отношение состояний сознания к мозгу.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
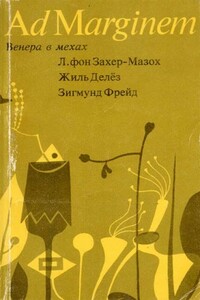
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
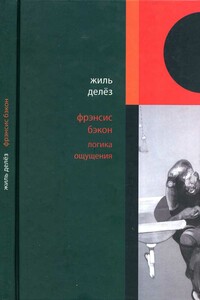
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
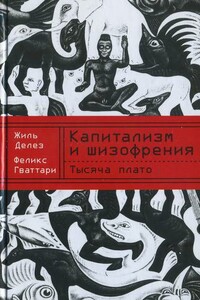
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».