Переговоры - [57]
Психоанализ казался нам фантастическим предприятием, загоняющим желание в тупик и мешающим людям говорить то, что они должны сказать. Это было предприятие, направленное против жизни, песнь смерти, закона и кастрации, жажда трансцендентного, некое жречество, некая психология (в том смысле, что психология есть только у священника, у жреца). Если эта книга имела какое-то значение после 68-го, то на самом деле потому, что она решительно порывала с фрейдомарксизмом: мы стремились не примирить или распределить его уровни, но, наоборот, в соответствии с логикой этого течения разместить в том же плане некое производство, в одно и то же время и социальное, и связанное с желанием. Бред действовал в реальности, мы не знали другого начала, кроме реальности, воображаемое и символическое казались нам ложными категориями.
«Анти-Эдип» был однозначностью реального, чем-то вроде спинозизма бессознательного. Так, я полагаю, что 68-й год был даже открытием. Те, у кого есть ненависть к 68-му или кто оправдывает его отрицание, считают, что все это было символическим или воображаемым. Но как раз таким он не был никогда, он был чистым вторжением реальности. Во всяком случае я не. вижу ни малейшей аналогии между демаршем «Анти-Эдипа» в отношении Фрейда и демаршем «Новых философов» в отношении к Марксу. Я был бы в полной растерянности. Если в «Анти-Эдипе» есть претензия на критику психоанализа, то она производна от концепции бессознательного, которая, плохо или хорошо, но детально изложена в этой книге. В то же время новые философы, когда они разоблачают Маркса, не предпринимают никакого нового анализа капитала, который у них вообще таинственным образом утрачивает всякое существование, они разоблачают последствия сталинской политики и этики, которые, как они предполагают, вытекают из Маркса. Они, скорее, ближе к тем, кто приписывал Фрейду безнравственные последствия его учения: это ничего общего не имеет с философией.
— Вы постоянно ссылаетесь на имманенцию: это, кажется, ваша самая излюбленная мысль, мысль без непоследовательности и отрицания, мысль, систематически устраняющая всякую видимость трансценденции, какого бы рода она ни была. Хочется вас спросить: это действительно так, и как это возможно?* Поскольку, несмотря на эту обобщенную имманенцию, ваши понятия остаются частными и локальными. Кажется, что, начиная с «Логики смысла», вы были озабочены производством целой батареи концептов вместе с каждой новой книгой. Разумеется, можно наблюдать и их миграции, совпадения. Но, в более глобальном плане, словарь книг о кино не является тем же, что и словарь «Логики смысла», а последний не совпадает со словарем «Капитализма и шизофрении» и т. д. Как если бы вместо того, чтобы появляться вновь с целью уточняться, усложняться, утончаться, возрастать, если можно так выразиться, по отношению к самим себе, ваши концепты должны были всякий раз формировать свое собственное тело, такое специфическое изобретение. Не предполагает ли это, что им несвойственно какое-либо возобновление в рамках общей формулировки? Или речь идет только о том, чтобы сделать величайшее открытие, не предвосхищая его заранее? И как это примиряется с имманенцией?
— Составить план имманенции, исследовать поле имманенции — все авторы, которыми я занимался, делают это (даже Кант, когда он разоблачает трансцендентное использование синтезов, но он исходит из возможного опыта, а не из реального эксперимента). Абстракция ничего не объясняет, ее саму следует объяснить: нет ни универсального, ни трансцендентного, ни Единого, ни субъекта (ни объекта), ни Разума, есть только процессы, которые могут быть процессами унификации, субъективации, рационализации, но ничем более. Эти процессы происходят в конкретных множествах, именно множество является тем началом, где что-то происходит. Именно множества населяют поле имманенции, подобно тому как племена населяют пустыню, но она не перестает быть пустыней. И план имманенции должен быть построен, имманенция — это конструктивизм, и всякое значимое множество является частью этого плана. Все процессы совершаются по плану имманенции и в каком-то значимом множестве: унификация, субъективация, рационализация, централизация не обладают никаким преимуществом, часто именно тупики или преграды препятствуют возрастанию множества, продлению и развитию его линий, производству нового.
Когда обращаются к трансценденции, останавливают движение, чтобы ввести какую-либо интерпретацию вместо эксперимента. Беллур[81] прекрасно показал это на примере кинематографа, на примере потока образов. И действительно, интерпретация всегда проводится от имени какой-то вещи, которой, как предполагают, недостает. Единое — это и есть как раз то, чего недостает множеству, как субъект — это то, чего недостает событию («дождь идет»). Разумеется, существуют феномены отсутствия, но только в зависимости от абстрактного, с точки зрения некоторой трансценденции, даже если это трансценденция какого-либо «Я», всякий раз когда есть помеха конструированию плана имманенции. Процесс — это становление, но он считается таковым не в силу результата, которым он завершается, а в силу качества его протекания и его непрерывной мощи: таким является становление животного или несубъектная индивидуация. В этом смысле мы противопоставляем ризому деревьям или, скорее, процессам разветвления, представляющим собой временные границы, у которых останавливается ризома и ее трансформации. Нет универсального, есть только сингулярное. Концепт не является универсальным, но представляет собой ансамбль сингулярностей, каждая из которых существует по соседству с другой. Вернемся к примеру ритурнели как концепта: он связан с территорией. Есть ритурнели на самой территории, а также те, что ее маркируют; а также когда мы пытаемся вернуться к этой земле и когда испытываем страх по ночам; и еще когда мы покидаем ее, «прощай, я уезжаю…». Здесь уже есть три различных позиции. Но в таком случае все дело в том, что ритурнель выражает напряженное отношение к чему-то более глубокому, и это — Земля. Пусть так, но Земля — детерриториализирована, она неотделима от процессов детерриториализации, которые являются ее ошибочным движением. Вот ансамбль сингулярностей, которые длятся рядом друг с другом, это концепт, отсылающий к событию как к таковому: романс. Пение поднимается, приближается или удаляется. Это то, что происходит по плану имманенции: множества заполняют его, сингулярности соединяются, процесс или становление развивается, интенсивность возрастает или падает.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
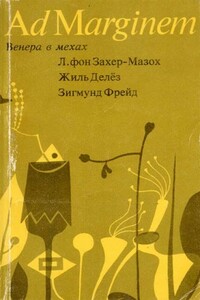
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
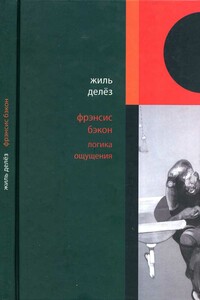
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
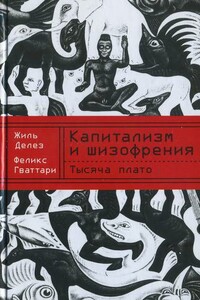
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».