Пепел - [263]
Мимо двух дуплистых сестер-ив путники по косогору быстро въехали во двор. На крыльце уже сидел на жесткой скамеечке старик Ольбромский в своей облезлой бекеше и неизменной конфедератке. Увидев неожиданно всадников, он вскочил с явным намерением заблаговременно ретироваться. Но было уже поздно. Суровый и сердитый старик стал, насупясь, спускаться по ступенькам вниз. Рукой он теребил свою конфедератку, точно собираясь снять ее и поклониться приезжим. Молниеносными взглядами пронзал он гостей. И вдруг лицо его, сморщенное как печеное яблоко, просветлело… Губы судорожно перекосились… Старик, как ребенок, зарыдал на груди сына…
Крик поднялся во всем доме. Выглянули женщины, сбежалась прислуга. Вот мать… Старушка, дряхлая старушка, ее едва можно узнать… Лицо все в морщинах и складках, поблекшие глаза плохо видят. Зофка! Рослая, полуодетая баба, тяжелая ходит, на восьмом, что ли, месяце.
Не успели все опомниться от восторга, как с изумлением услышали весть, что надо дать приют раненому князю Гинтулту. Шум и беготня поднялись во всем доме. В угловую комнату, где когда-то жил Рафал, стали сносить постель, звать прислугу, словом, суматоха началась страшная. На дворе с лошадьми остался один Михцик. В мундире улана, убитого на Сандомирской площади, он смотрел старым ветераном. Беспокойно озирал он окрестности, поля, овраги. Князя внесли в комнатку и уложили на чистую постель с пышными пуховиками. В открытое окно веяло ароматом роз. Князь лежал, полузакрыв глаза, почти без сознания, и все время глядел в угол. Лицо у него все время было неизменно нахмурено, точно одна какая-то мысль непрестанно сверлила его мозг. Князь давно не брился, губы, щеки и подбородок поросли у него щетиной, в которой проступала уже седина и старила его.
Все вышли в надежде, что больной заснет. Все будто бы хотели придумать для такого важного гостя завтрак получше, попитательней и поздоровей, сразу узнать все новости. А на деле все просто хотели без помех любоваться и любоваться Рафалом. Старики обступили сына, подвели его к окну, поближе к свету. Они вытирают глаза, чтобы получше рассмотреть сына, подставляют уши, которые стали уже плохо слышать, чтобы не проронить ни одного его слова… Они топчутся, заглядывают сыну в глаза…
Тем временем Зофка тайком опять прошла по коридорчику, который вел в комнату раненого. Она приотворила дверь, заглянула в щелку. Князь по-прежнему лежал, нахмуря лоб и закусив губу, словно весь во власти одной какой-то мысли. Зофка бесшумно переступила порог комнаты и притаилась в углу за печкой. Она смотрит, смотрит на князя и не может насмотреться… В прошлом году ее выдали замуж за одного из женихов, за соседа, она сделала прекрасную партию. Об этом она и думает сейчас. Была она нареченной невестой, сшили ей приданое, сыграли шумную свадьбу с музыкой, с танцами, венчали ее, надевали ей на голову чепчик, праздновали отводы. Все как во сне. Сейчас она тяжела… И вот в такую минуту является к ней «ее князь»… Неужели это тот человек, который виделся ей в девичьих радостных грезах и снах? Вот как сбылись ее грезы? Князь лежит в этой комнате, где она столько раз мечтала о нем по ночам.
Почему же все так сложилось?
Вдруг она сгорела со стыда! Упрямые морщины на лбу князя стали разглаживаться, таять, как тучи от дуновения легкого ветерка, когда выглянет солнышко. Улыбка, словно далекая зорька, блеснула на губах, озарила лицо. Только глаза остались стеклянными, ничего не видели. По лицу разлилось выражение умиротворенности, благодатная тишина, блаженное успокоение снизошли на него. Князь с трудом складывает онемелые беспомощные руки, сплетает бессильные пальцы… Он прижимает обе руки к тяжело вздымающейся груди. Губы шепчут цветистые слова, которые ясно и отчетливо слышит Зофка. Минуту ей кажется, будто она все понимает, что шепчут эти губы, будто она давно уже все это слышала, хорошо все это знает… Он повторил эти слова, повторил еще и еще раз:
Она прижалась к стене и обратилась в тень, которая ничего не знает, но верна до последнего часа…
Вдруг за домом раздался пронзительный крик. Зофка бросилась в дверь. Рафал бежал во двор, надевая по дороге шапку и застегивая ремни. Михцик показывал в даль, на другой берег Копшивянки, откуда медленно направлялась к ним австрийская конница и пехота. Рафал бросился с Михциком к лошадям. Но от взмыленных лошадей шел пар, бока у них так и ходили. Старый Ольбромский семенил за сыном, торопя его. Взгляд старика упал на обеих заморенных лошадей. Он что-то закричал… Побежал вдруг к конюшне и стал распоряжаться:
– Михцик! Михцик! Давай сюда лошадей, живее!
Михцик с Рафалом поспешили за стариком. Тот тем временем отворил трясущимися руками ворота конюшни и закричал:
– Гнедого. мерина панычу! Себе бери эту сивую кобылу! Живее! Что же ты стоишь! Это ты спас мне сына Петра… Перекладывай седло… Живее!.. Их уже видно…
Михцик взнуздал прекрасных коней, выращенных под недремлющим хозяйским оком, в темноте, выкормленных овсом и хлебом, а клячонок, на которых они приехали, завел в стойла. Рафал затягивал подпруги. Через минуту оба были в седле и дали шпору скакунам.

Впервые напечатан в журнале «Голос», 1889, № 49, под названием «Из дневника. 1. Собачий долг» с указанием в конце: «Продолжение следует». По первоначальному замыслу этим рассказом должен был открываться задуманный Жеромским цикл «Из дневника» (см. примечание к рассказу «Забвение»).«Меня взяли в цензуре на заметку как автора «неблагонадежного»… «Собачий долг» искромсали так, что буквально ничего не осталось», — записывает Жеромский в дневнике 23. I. 1890 г. В частности, цензура не пропустила оправдывающий название конец рассказа.Легшее в основу рассказа действительное происшествие описано Жеромским в дневнике 28 января 1889 г.

Повесть Жеромского носит автобиографический характер. В основу ее легли переживания юношеских лет писателя. Действие повести относится к 70 – 80-м годам XIX столетия, когда в Королевстве Польском после подавления национально-освободительного восстания 1863 года политика русификации принимает особо острые формы. В польских школах вводится преподавание на русском языке, польский язык остается в школьной программе как необязательный. Школа становится одним из центров русификации польской молодежи.

Роман «Верная река» (1912) – о восстании 1863 года – сочетает достоверность исторических фактов и романтическую коллизию любви бедной шляхтянки Саломеи Брыницкой к раненому повстанцу, князю Юзефу.

Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения», 1898 г. Журнальная публикация неизвестна.На русском языке впервые напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы», 1906, № 11, под названием «Наказание», перевод А. И. Яцимирского.
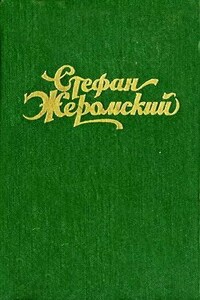
Роман «Бездомные» в свое время принес писателю большую известность и был высоко оценен критикой. В нем впервые Жеромский исследует жизнь промышленных рабочих (предварительно писатель побывал на шахтах в Домбровском бассейне и металлургических заводах). Бунтарский пафос, глубоко реалистические мотивировки соседствуют в романе с изображением страдания как извечного закона бытия и таинственного предначертания.Герой его врач Томаш Юдым считает, что ассоциация врачей должна потребовать от государства и промышленников коренной реформы в системе охраны труда и народного здравоохранения.

Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, №№ 24–26. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).Студенческий быт изображен в рассказе по воспоминаниям писателя. О нужде Обарецкого, когда тот был еще «бедным студентом четвертого курса», Жеромский пишет с тем же легким юмором, с которым когда‑то записывал в дневнике о себе: «Иду я по Трэмбацкой улице, стараясь так искусно ставить ноги, чтобы не все хотя бы видели, что подошвы моих ботинок перешли в область иллюзии» (5. XI. 1887 г.). Или: «Голодный, ослабевший, в одолженном пальтишке, тесном, как смирительная рубашка, я иду по Краковскому предместью…» (11.
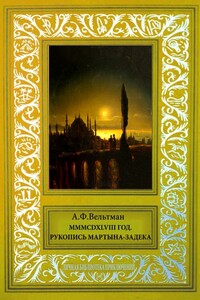
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
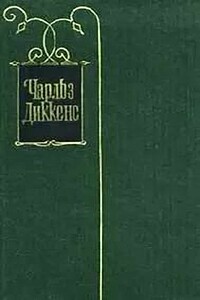
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
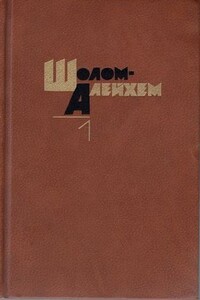
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.