Пепел красной коровы - [43]
Стрептомицин
Слушая Майлза Дэвиса.
Пока оно спит, я живу, — стоит ему зашевелиться, я начинаю тормозить, пытаясь нащупать границы и дотянуться до того, другого, — в многочисленных зеркалах отражается мое множественное «я», — вглядываясь в лица двойников, я веду диалог с каждым из них, приспосабливаясь к оттенкам, интонациям, разнице взглядов, восприятию. Каждый из них — это я, и не всегда ясно, кто же из них отвечает мне, — впечатываясь в толстое стекло пальцами, замирая на выдохе, ищу со-прикосновения, созвучия, наложения лекал на ускользающие блики, — что осталось от вас вчерашних, ты ли это, плывущая по улице с цветком в зубах, вся предвкушение — медлительная томная орхидея, нега и легкость, андалузская цветочница, отбрасывающая роскошную тень на оплавленный зноем булыжник, — ты ли это, блуждающая в поиске тепла взъерошенная птица, втягивающая ядовитую каплю абсента истонченными ожиданием губами, — или ты, с немым вопросом в опаленных бессонницей глазах, или ты, надменно поводящая плечами, или вон та, с циничной ухмылкой и сорвавшимся междометием, — не вернуть, увы, — я медленно прохожу вдоль окон и стен, касаюсь каждой, но они уплывают от меня — та, танцующая, сводит с ума, дразнит и смеется, — блеск ее глаз и походка мучительно напоминают, — кого же?
Пока оно спит, я живу, — ненасытное, алчное, оно вбирает в себя и редко отдает, оно выталкивает того, другого, уделяя ему фрагменты сна, часы чувственного наслаждения водой, пищей, ухода в сон и медленного пробуждения, — оно пробирается на рассвете, бесцеремонно расталкивая, садится у изголовья, заливаясь соловьем, дроздом, кукушкой, приседая на растопыренных вороньих лапах, выслеживая добычу, — странное существо, с цепкими пальцами, остроглазое, не закрывающее рта ни на миг, — я пытаюсь отделаться от него, но вживленный чип вгрызается, вторгается, подменяя собой драгоценные крупицы бессознательного, — оно обрушивается внезапно, — водопадом чужого красноречия, оно забирается в самые потаенные уголки, унося сокровенное, навсегда, без отдачи, — если распахнуть окно, все уйдет как наваждение, — затухающая на лету сигарета уподобится летящей комете, — утопая в сыром ворохе листьев, она испустит скорбный выдох, — будет просто дождь, просто рассветная блажь, просто сумерки, просто жизнь — такая, неправильная, неловкая, моя, любая, — пока оно спит, я сбегу, я прорвусь туда, где запах, цвет, вкус, ни единой мысли, осторожной, истрепанной, истертой многократным употреблением, захватанной чужими руками, — пока оно спит, мы недосягаемы, ограждены от вторжения, только не зажигай свет, пусть длится сон, пока оно спит, я отрываюсь, я лечу.
Рита Краузе
Маленькая Рита Краузе, цыганисто-смуглая, с дикими глазами под узкой лентой лба, судорожно мяла мою ладонь в своей потной горячей ладошке, — на утреннем сеансе в «Ротонде» было, как всегда, — несколько благодарно кивающих голубоватых старушек, — те в основном занимали первые ряды, — чуть поодаль располагались чувствительные домохозяйки, ну а последний ряд заполнялся лунатиками вроде меня и Риты — случайными прогульщиками, отщепенцами, дезертирами, соскочившими со скучного школьного конвейера, — цепкие Ритины пальчики исследовали мое запястье, сплетались с моими, коварно переползали к ноге, замирали, порхали и кружились в волнующем танце, — осмелев, я дотронулся до ее бедра и застыл в нерешительности, пока шершавая ткань школьного платья не поползла кверху, обнажая прохладную полоску кожи между чулком и плотной резинкой штанишек.
За время сеанса мы успевали изойти сладчайшей истомой, сплетаясь руками, пальцами, ртами, добираясь до таких откровений, по сравнению с которыми сдержанные объятия и поцелуи экранных героев казались до смешного разочаровывающими, — крепко зажмурив веки, я преодолевал не очень сильное сопротивление Ритиной ладони, — последний бастион был взят под голубиное стенание сидящей впереди парочки, — шляпа молодого человека сдвинулась набекрень, а голова женщины сползла куда-то вниз, — что-то во мне пульсировало и взрывалось, — приоткрыв глаза, я увидел удивительной красоты профиль, с подрагивающими губами и античной линией лба, — будто и не Рита вовсе, а незнакомая девушка полулежала рядом с запрокинутой головой и широко раздвинутыми ногами.
Через много лет я не сразу узнаю ее в дурно одетой женщине с нездоровым желтоватым цветом лица, — кивнув, она задержит на мне вопросительный взгляд и поспешит дальше, стуча каблуками, — единственное оставшееся от той, прежней Риты — чуть выступающая нижняя челюсть, немного более тяжеловатая, чем следовало бы, с грубоватым и жадным рисунком губ, а еще зеркально-влажный блеск раскосых глаз исподлобья.
Худая женщина с отчетливо обозначенными скулами и тревожными провалами глаз на гипсовом лице, — она выпускает тонкие колечки дыма и хрипло смеется, — смех выдает отчаянную девчонку, каковой она казалась когда-то, — отчаянную девчонку, привыкшую на обиды отвечать таким вот раскатистым мальчишеским смехом, — мой муж, — шепчет она, — все так внезапно, — мой муж умер, и все эти справки, документы, я ничего в этом не понимаю, — она продолжает смеяться и вдруг разражается сухим лающим кашлем, переходящим в рыдания, — сотрясаясь всем телом, — и я обнимаю ее, — только сострадание, сострадание и стремление покончить со всем этим, — руки ее шарят по моей груди, а хлипкие ребра разъезжаются под ладонями, — подобные ощущения я испытывал в детстве, когда пытался приласкать уличную кошку, — мне хочется бежать, поскорее бежать из душного полумрака, от этой чужой плачущей женщины, но я сжимаю ее хрупкие кисти, бережно разворачиваю ее, объятый внезапным труднообъяснимым желанием, я целую ее прокуренный рот, вдыхаю дым вперемешку со слезами, отчаяньем, страхом, — наутро я уйду не прощаясь, я выбегу на лестницу, жадно хватая воздух, чтобы никогда более не видеть ни этого дома, ни этой улицы.

У прозы Каринэ Арутюновой нет начала и нет конца: мы все время находимся в центре событий, которые одновременно происходят в нескольких измерениях. Из киевского Подола 70-х мы попадаем в Тель-Авив 90-х и встречаем там тех же знакомых персонажей – евреев и армян, русских и украинцев. Все они навечно запечатлелись в моментальной памяти рассказчицы, плетущей свои истории с ловкостью Шехерезады. Эту книгу можно открыть в любом месте и читать, любуясь деталями и разгадывая смыслы, как рассматривают миниатюры.

«Есть ли в вашем доме настоящая шумовка?Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом – это для тех, кто понимает.В незапамятные времена дни были долгими, куры – жирными, бульоны, соответственно, – наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной…».

Все это они вывезут вместе с баулами, клеенчатыми сумками, книжками, фотокарточками, чугунными сковородками, шубами, железными и золотыми коронками. Вместе с пресловутой смекалкой, посредственным знанием иностранных языков, чувством превосходства, комплексом неполноценности. Меланхолию, протяжную, продольную, бездонную. Миндалевидную, женственную, с цыганским надрывом, с семитской скорбью, вечной укоризной. Меланхолию, за которую им простят все.

Однажды в одной стране жили люди. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях. У них почти все было, как у нас.. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», полные жмени семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженного белья.Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой.

«Вместо Господа Бога у нас был Он.Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады…».

Легкая работа, дом и «пьяные» вечера в ближайшем баре… Безрезультатные ставки на спортивном тотализаторе и скрытое увлечение дорогой парфюмерией… Унылая жизнь Максима не обещала в будущем никаких изменений.Случайная мимолетная встреча с самой госпожой Фортуной в невзрачном человеческом обличье меняет судьбу Максима до неузнаваемости. С того дня ему безумно везет всегда и во всем. Но Фортуна благоволит лишь тем, кто умеет прощать и помогать. И стоит ему всего лишь раз подвести ее ожидания, как она тут же оставит его, чтобы превратить жизнь в череду проблем и разочарований.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
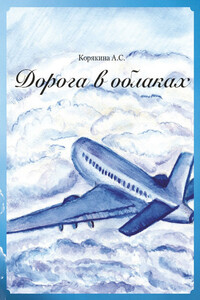
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
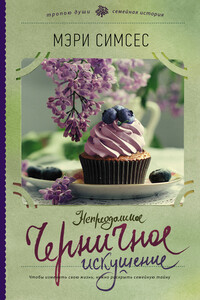
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?
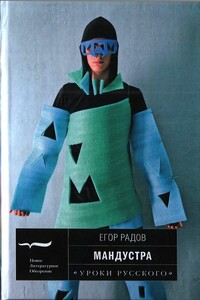
Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.
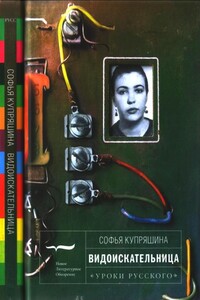
Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.